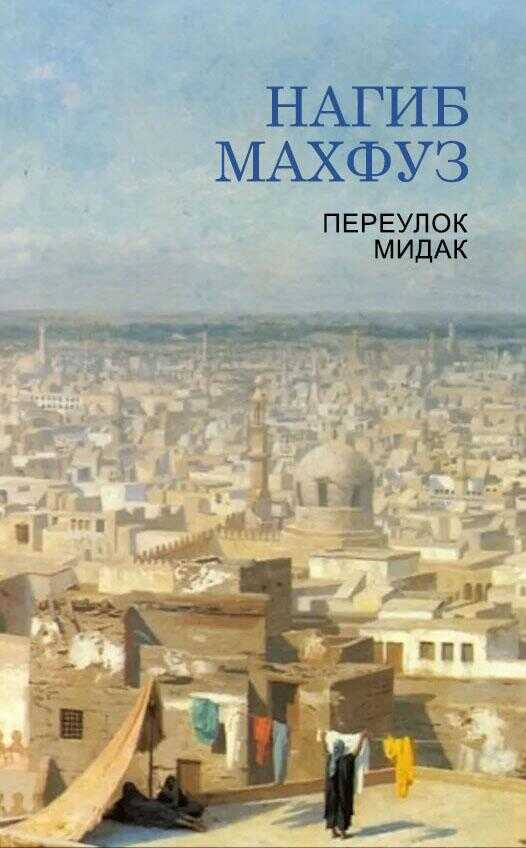Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Одно из наиболее значимых произведений арабской литературы XX в. — «Каирская трилогия» (1956–1957) египетского писателя Нагиба Махфуза (1911–2006; Нобелевская премия 1988). Заглавия романов «Байн ал-касрайн», «Каср аш-шаук» и «ас-Суккариййа» отсылают к названиям улиц в старых кварталах Каира и в переводе с арабского означают: «Меж двух дворцов», «Дом страстей» и «Сахарная улица» соответственно. В них повествуется о трех поколениях каирской семьи, улицы из заглавий указывают, где расположены семейные дома. Описывая жизнь, автор отображает социальные и политические события в истории Египта.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Нагиб Махфуз»: