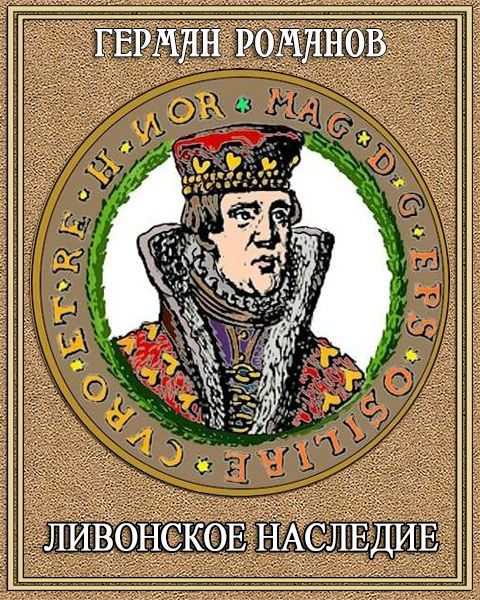Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Верным слугам Ивана Грозного удаётся схватить на границе с Ливонией молодого немецкого шпиона, при котором находят грамоты со сведениями о русских войсках. Задержанного отправляют в Москву, в приказ, где вдруг обнаруживается, что один из «сыновей боярских» похож на него, будто брат-близнец... Это сходство используют, и молодой боярин отправляется в Ливонию с тайным заданием...
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Михайлович Зайцев»: