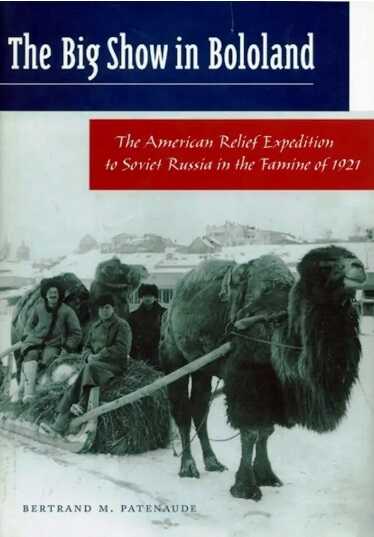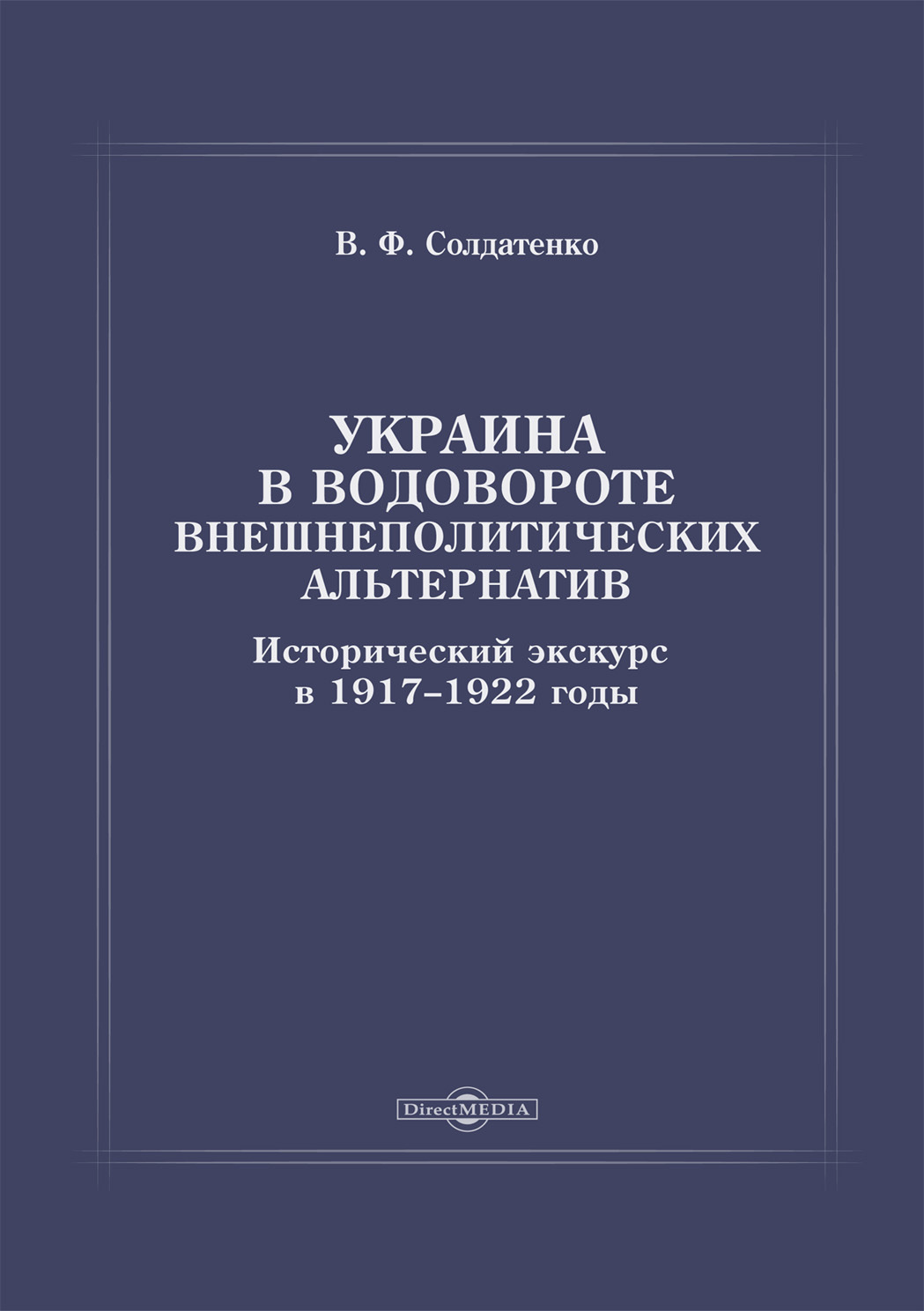Шрифт:
Закладка:
Британский писатель Гиббс, питавший слабость к мелодраматизму, изобразил Калинина, спрашивающего крестьянина о его возрасте; ответом было «Пятьдесят».
«Тогда ты достаточно взрослый, чтобы умереть», — жестоко сказал Калинин. «Старики должны умереть, чтобы молодые могли жить».
В своем экстраординарном дневнике русской революции историк Юрий Готье описывает, как провел майское воскресенье 1919 года на окраине столицы с группой примерно из пятнадцати русских буржуазного происхождения, «которые сбежали из ужасной и отвратительной Москвы, забыв на несколько часов о горе и страданиях, которые они испытывали». Он почувствовал жалость к этим «бедным буржуа и мещанкам», когда им пришлось садиться на ночной поезд обратно в город, чтобы вернуться к своей государственной работе. «Русский интеллигент-буржуа удивительно кроток и покорен судьбе; в этой компании были очень богатые мужчины и очень богатые женщины, и все они приняли свою судьбу с удивительной простотой; я не знаю, хвалить ли их за философское мировоззрение или презирать за бесхарактерность».
Как свидетельствует Готе, русский фатализм был присущ не только крестьянству. Чайлдс имел в виду особенно обездоленные классы, когда восхвалял русских за их тихий героизм перед лицом невзгод. Для него, как и для многих других иностранных гостей до и после, этот аспект русского характера был воплощен русским выражением «ништо? Он назвал это «идеальным обобщением отношения русских масс к жизни». По-английски это можно перевести несколькими способами, включая «неважно» и «все в порядке». «Ничево. Ни одно слово так точно не отражает философскую покорность славянина, столкнувшегося с невзгодами, какими бы суровыми они ни были. Русский произносил это в течение столетий страданий, в условиях одного из самых суровых климатических условий в мире, под тиранией царей и гнетом таких советских лидеров, как Сталин».
Но опять же, как объяснить 1917 год? Разве русские — или, во всяком случае, значительная их часть — в том году не взяли дело в свои руки, не вышли на улицы и не свергли царя, а затем и Временное правительство? Разве это не отражало другую, активную сторону русских? Один американский очевидец революции, театральный критик Оливер Сейлер, думал иначе. Он был в Москве во время большевистского государственного переворота, который он назвал в своей книге 1919 года «Россия Белая или красная» «моим боевым крещением на российской сцене». Многочисленные демонстрации, которые он наблюдал в те октябрьские дни, он интерпретировал как еще одно свидетельство пассивности России. Демонстранты, о которых он говорит, с таким же успехом могли стоять в очереди, этом неизменном символе российского терпения.
В «Демонстрации» тоже присутствует чувство беспомощности. Импотенция не знает другого выхода. Фатализм написан у нее на лице. Россия сегодня действительно беспомощна, но в ее характере есть странная восточная нотка смирения, отчасти благодаря которой она впала в прострацию. В демонстрации также проявляется самая русская из всех характеристик — бесконечное терпение, которое позволило этим людям выстоять тысячу лет и которое поможет им пережить все, что еще приготовит Революция, чтобы усугубить их и без того тяжкое бремя.
Даже Сайлер, с его острым воображением, вероятно, не смог бы предвидеть, что ждет Россию в ближайшие несколько лет. И если под «Революцией» понимать жестокость сталинского периода — принудительную коллективизацию, голод 1932 года, Большой террор, — то это было «тяжкое бремя», превосходящее все мыслимое для любого, кто писал в 1918 году. Тем не менее, другие, пришедшие после него, делали заявления о 1930-х годах словами, подобными тем, которые он использовал для оценки событий 1917 года:
Пока мы не знаем русского, пока мы не знаем русского в России, нам почти невозможно представить себе этот дух смирения и долготерпения. Почему он будет терпеть сегодняшнюю Россию? Почему он ничего не делает, чтобы это изменить? Есть только один ответ. Его воля к действию притупилась в процессе столетий. «Время тянется долго. Ничево — это не имеет значения! Россия когда-нибудь найдет себя».
Ничево, пишущееся несколькими способами, вошло в повседневный лексикон американских работников гуманитарной помощи несмотря на то, что его привычное употребление русскими испытывало их терпение. Они сталкивались с ним повсюду, от крестьянской хижины до Кремля. Американец из московской штаб-квартиры, классифицируя отношение бывшей знати к власти большевиков на основе наблюдений за представителями этого социального класса на работе в офисе, выделил три основные группы: непримиримые; группа «моя страна-правильная или неправильная», готовая принять правительство в Кремле, какими бы неприятными ни были его члены и практика; и, безусловно, самая многочисленная группа, те, кто «принял свою судьбу с истинно славянской философией». Они пожимают плечами, вспоминая старые времена, и, когда их спрашивают, как они себя чувствуют, спокойно отвечают:
«Ничево».
Дюранти почувствовал, что это слово отражает как положительную, так и отрицательную сторону русских. Послушав дискуссию нескольких бизнесменов времен НЭПа о схемах зарабатывания денег, он заметил:
Казалось, никого не беспокоили трудности прошлого и никто не беспокоился о будущем. Видите ли, это были русские, чье расовое качество заключается в том, чтобы сильно переживать настоящее и отбрасывать сомнения, страхи или ужасные воспоминания с легкой детской беззаботностью. «Ничево» — «что из этого» или «неважно» — веками было национальным девизом России, и общий дух безразличия, о котором оно свидетельствует, является элементом как силы, так и слабости.
Это слово встречается в официальных и личных сообщениях мужчин АРА, где оно используется как выражение демонстративного безразличия и иронии. Завершая официальный отчет из поволжского городка с подробным описанием масштабов предстоящей работы и множества физических, климатических, бюрократических, политических и других препятствий, стоящих на пути ее завершения, американец вполне мог закончить фразой «Ничево», что-то вроде «Какого черта» или «О чем мне беспокоиться?» — ироничной, потому что она имитировала голос самого большого психологического препятствия, с которым он столкнулся.
Работникам гуманитарной помощи, как и репортерам, нравилось вкладывать слово «Ничево» в уста своего русского обывателя, когда он сталкивался с судьбой хуже смерти. Если бы был приз за наиболее эффективное использование этого литературного приема, журналист Маккензи ушел бы с почестями. Возможно, он придумал окончательный символ распростертой России — хотя, возможно, это было не то, что он имел в виду — в июне 1922 года, когда посетил знаменитую нижегородскую хирургическую больницу, находящуюся в ведении Красного Креста и известную своей работой в брюшной полости. Профессиональная преданность делу, любопытство или что-то еще привело его в операционную, чтобы понаблюдать за пациентом, перенесшим серьезную абдоминальную операцию. Процедура длилась один час сорок минут. Хирурги могли применять только местную анестезию. На самом деле в больнице не было ни успокоительных, ни стимуляторов, ни резиновой накидки, ни резиновых перчаток, очень мало тампонов и только тупые хирургические ножи.
Пациент