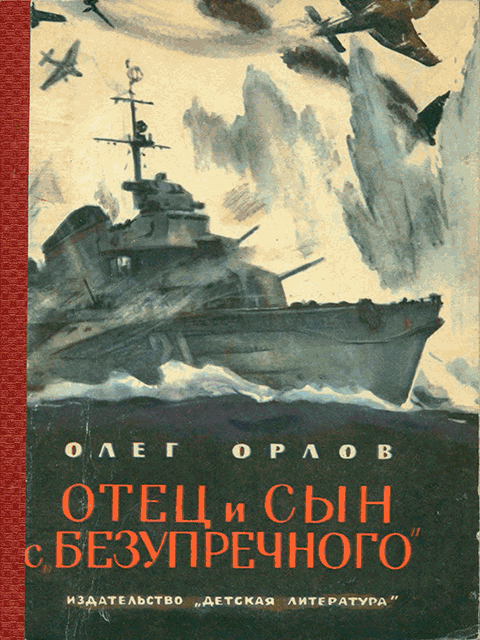Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Красная армия приступила к освобождению Европы от ига немецко-фашистских захватчиков, но на «мирной» земле Украины война продолжалась. Националистические банды, не пожелав сложить оружие, продолжали борьбу против Красной армии и мирного населения. Враг коварен, хитер и беспощаден, действовал тайно, подло, исподтишка. Пограничники, солдаты и офицеры внутренних войск, проявляя мужество, стойкость и самоотверженность, вступили в смертельную схватку с невидимым врагом, как гончие шли по его следу.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Вадим Дёмин»: