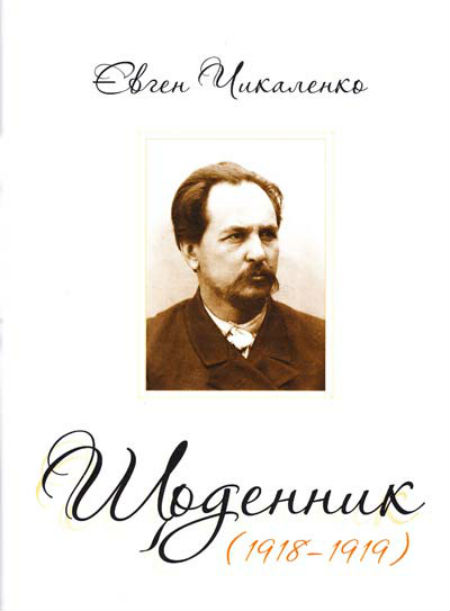Шрифт:
Закладка:
Владимир Бенедиктович Станкевич – профессиональный юрист, политик, близкий к кругу А.Ф. Керенского, в годы Первой мировой войны оказался в армии с невысоким чином прапорщика. Однако чин не помешал ему в дни Февральской революции занять высокое положение – сначала он был избран в Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов, а с получением Керенским портфеля военного министра во Временном правительстве получил назначение комиссаром Северного фронта, а позже и Ставки Верховного главнокомандующего.Рассказ человека, прикоснувшегося к великим историческим событиям – революциям, войнам и пр. – и лично знавшего тех, чьи имена остались на страницах учебников, по-новому раскрывает картины минувшего.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.