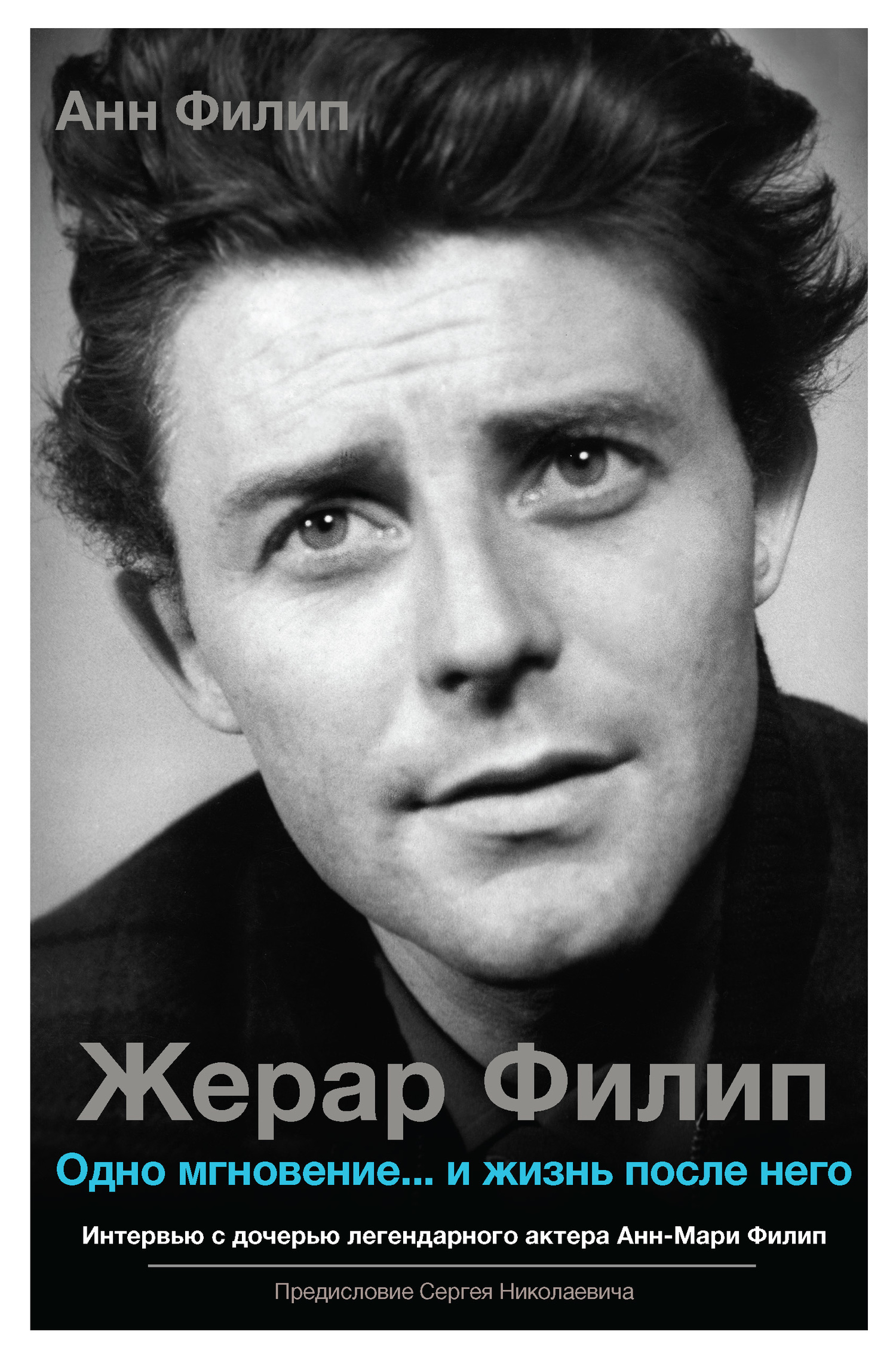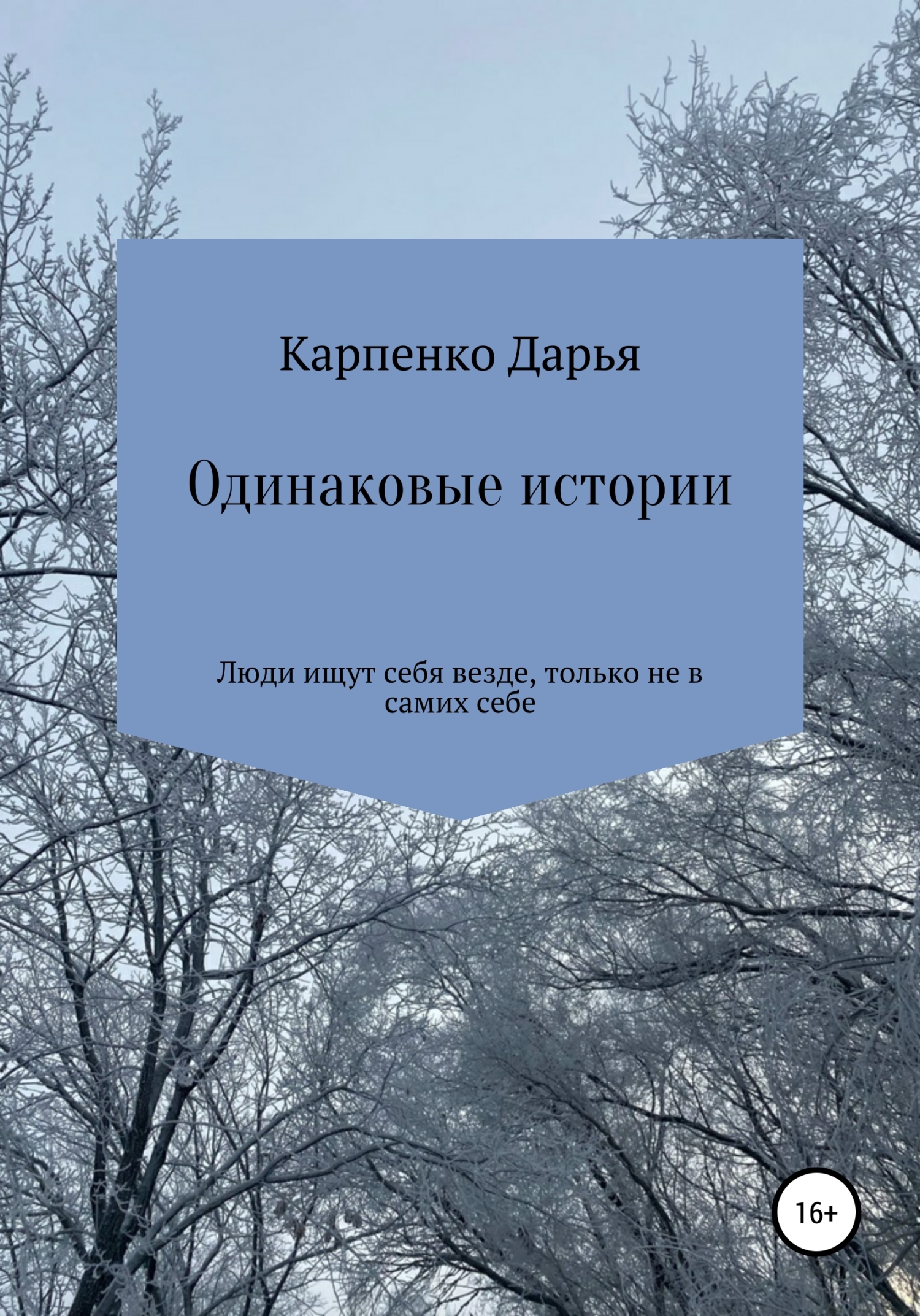Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Произведение о человеке пробудившимся после глубокого сна и оказавшегося в мире после прошедшего мировоззренческого кризиса всего человеческого сообщества. Герой оказывается в полном одиночестве и пытается собрать по крупицам череду событий приведших к произошедшим изменениям. В этих попытках он так же пытается обрести самого себя и разобраться в том какие причины предшествовали его сну и тем изменениям произошедшим в нем, которые он с ужасом обнаруживает сразу после пробуждения.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Никита Демидов»: