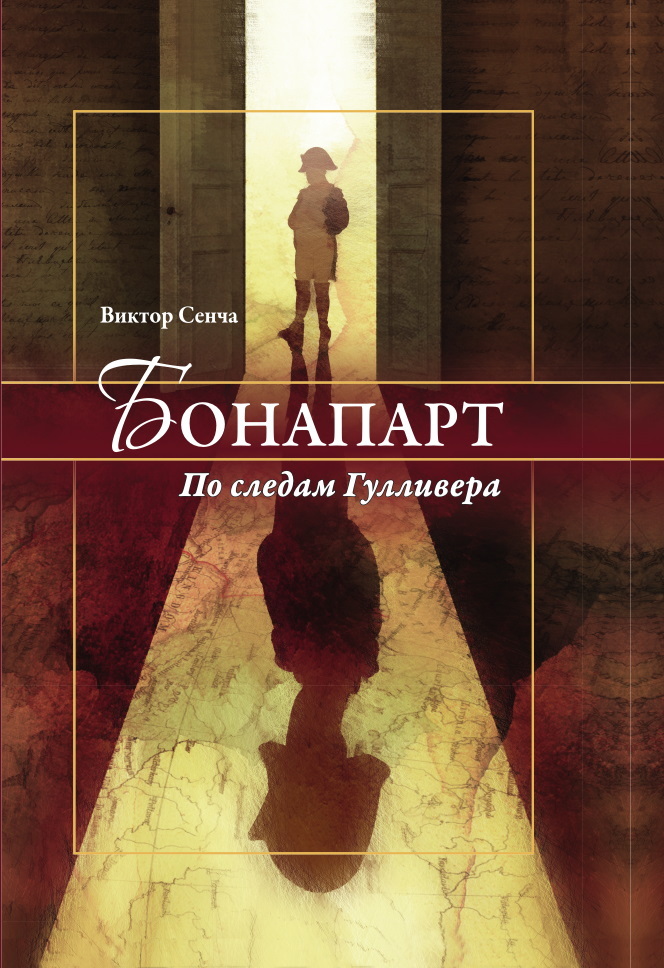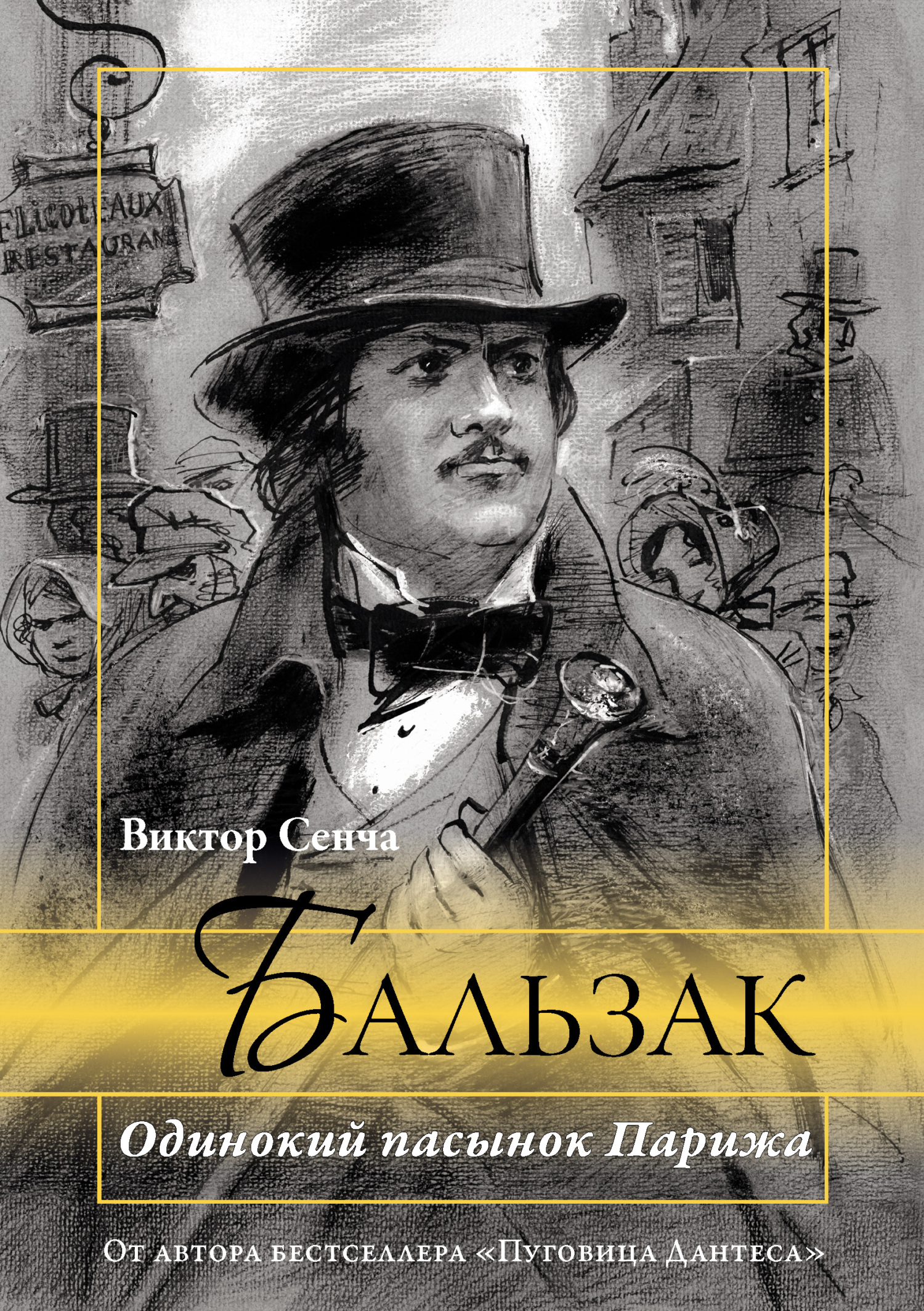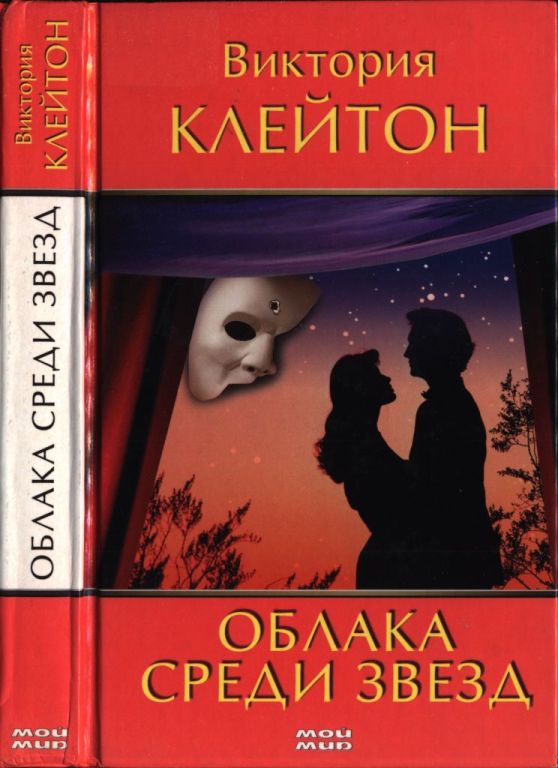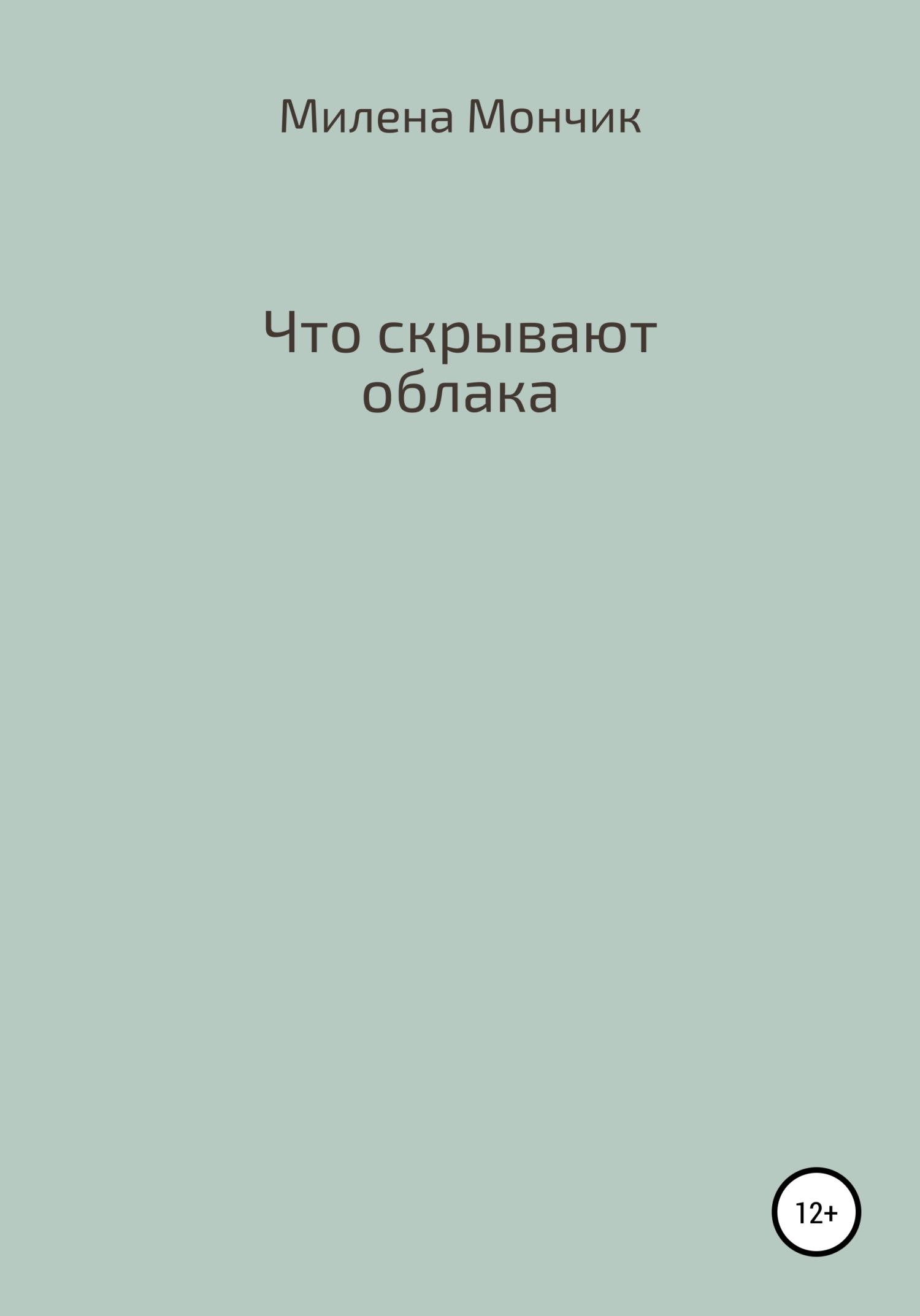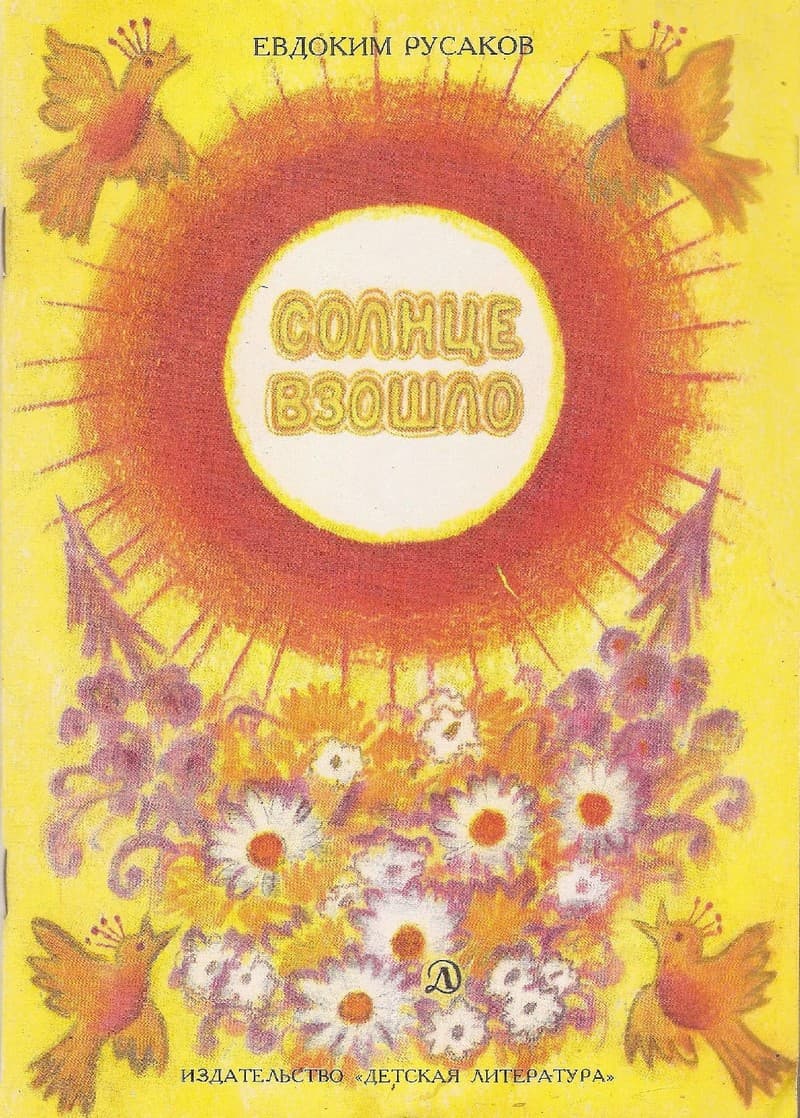Шрифт:
Закладка:
«Это не Рабле, не Вольтер, не Гофман; это – Бальзак», – писал при жизни французского романиста журнал «Revue des Deux Mondes». Прошли годы, но ничего не изменилось: бальзаковская проза стала ещё актуальнее. Кто-то называл Бальзака «сокровищем мировой литературы», кто-то – «бесценным кладезем ума»… «Ярчайший метеор»… «Бриллиант словесности»… Всё так. Правда, следует добавить: великий французский писатель – намного больше, шире и грандиознее всех эпитетов, собранных вместе.О Бальзаке написаны сотни книг и тысячи исследований. И это ещё больше повышает значимость книги, которую Вы, уважаемый читатель, держите в руках. Уникальность новой работы писателя Виктора Сенчи в том, что впервые за последние годы выходит беллетризованное жизнеописание Бальзака, созданное русскоязычным автором. Именно жизнеописание, но отнюдь не изучение творческого наследия романиста. Широта исторического материала, изложенного автором, отражение социальных особенностей, характерных для Франции XIX века, делают повествование ещё более увлекательным и значимым. Именно поэтому биография великого француза в новом изложении, написанная ярким и живым языком, получилась интересной, захватывающей и во многом поучительной.Новая книга автора позволяет взглянуть на героя не только как на гениального мастера пера, но и как на предприимчивого дельца, кладоискателя, путешественника, любвеобильного дамского угодника и неудачливого политика. А ещё – обычного человека, со своими привычками, слабостями и недостатками, но всё равно гениального. Но как бы ни выглядел Оноре де Бальзак в разных ситуациях, он всегда великолепен!В формате a4.pdf сохранен издательский макет.