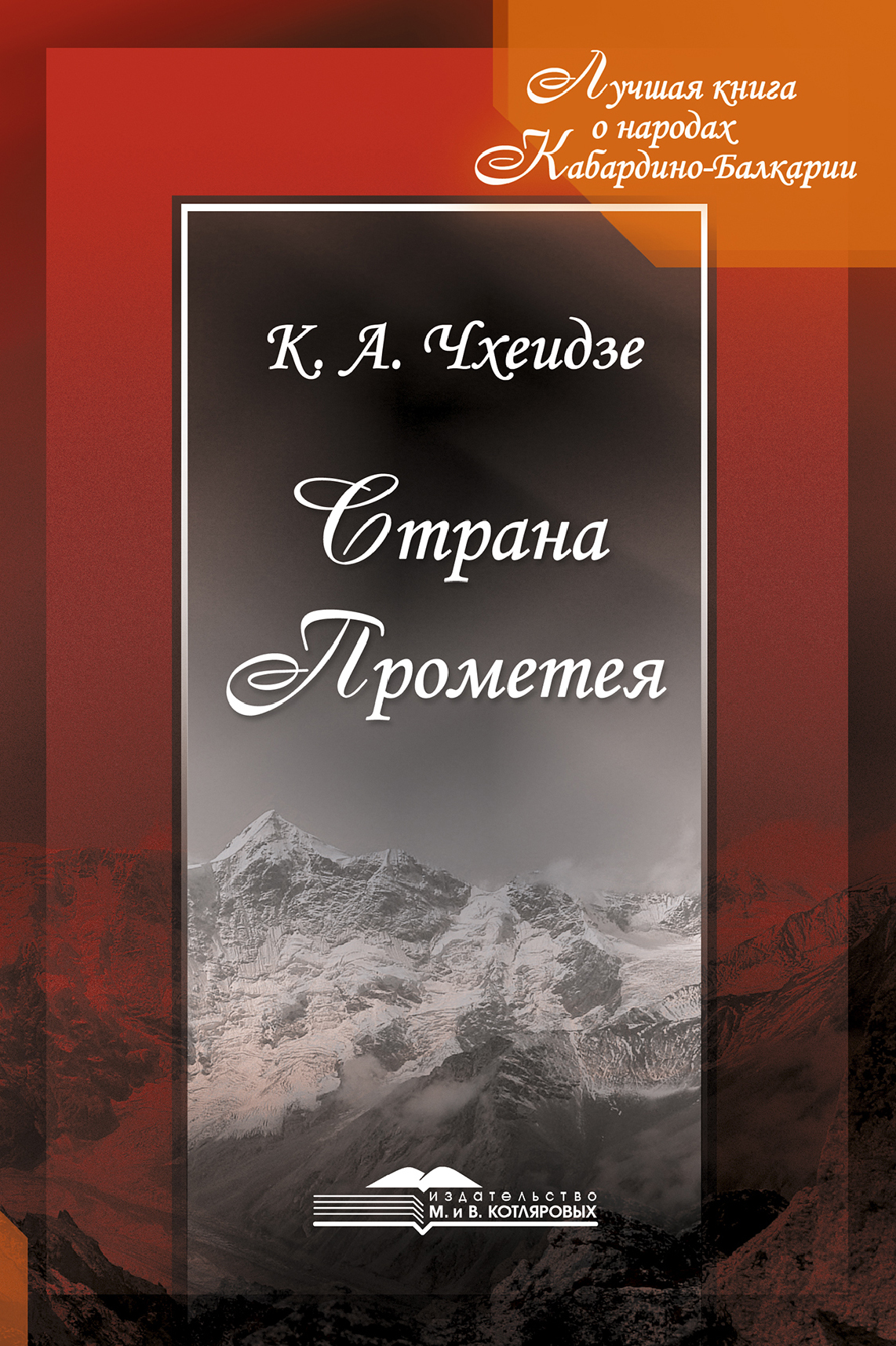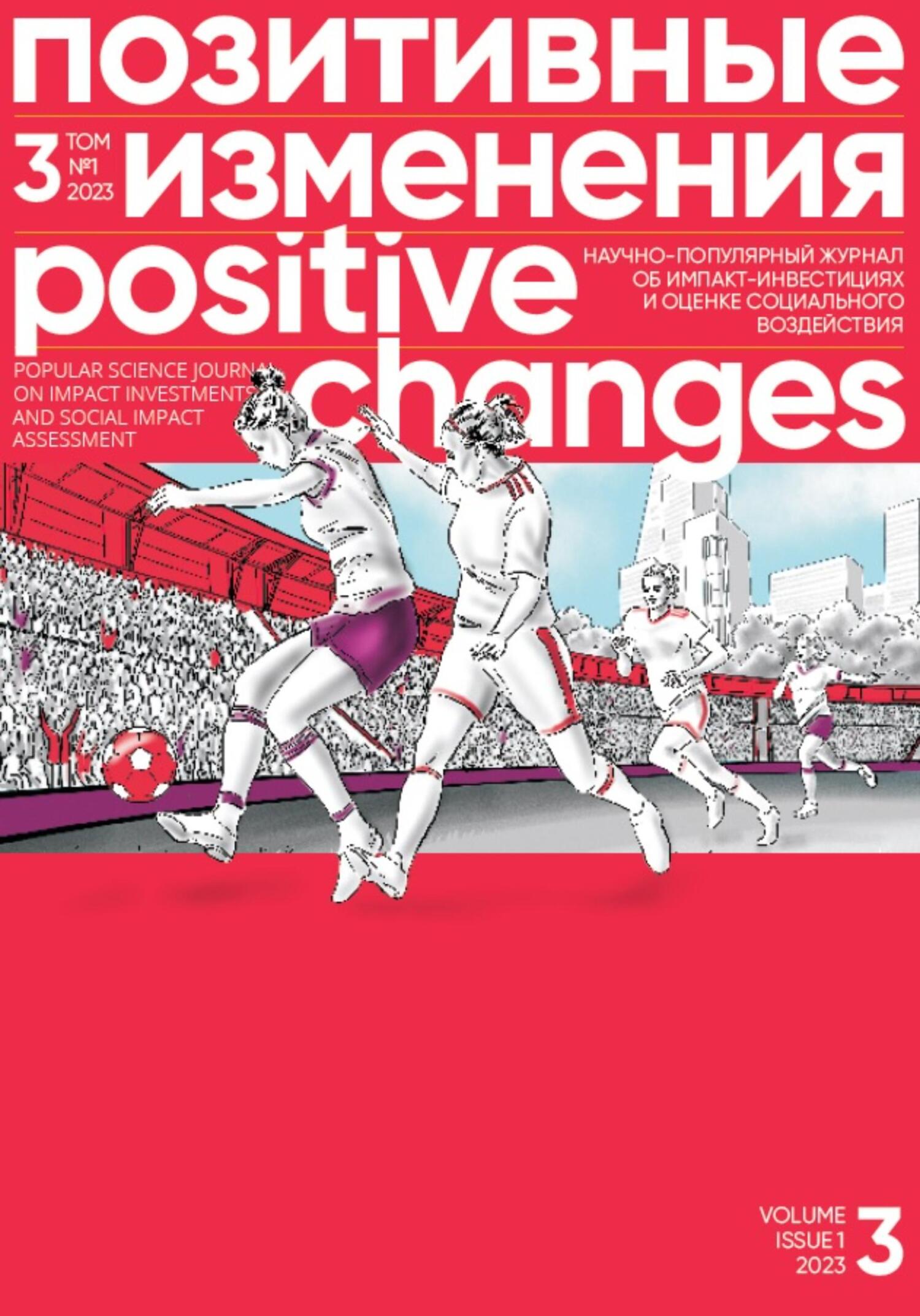Шрифт:
Закладка:
Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея - это биография Роберта Оппенгеймера, одного из самых выдающихся физиков XX века и главного создателя атомной бомбы. Кай Берд рассказывает об удивительной жизни и сложной судьбе человека, который стал символом научного гения и моральной дилеммы. Книга основана на обширном исследовании архивных документов, свидетельствах очевидцев и личных воспоминаниях Оппенгеймера и его семьи, друзей и коллег. Она показывает, как Оппенгеймер преодолел множество препятствий на своем пути к научной славе, как он участвовал в создании самого мощного оружия в истории человечества, и как он столкнулся с политическим преследованием и общественным осуждением за свои взгляды и действия. Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея - это захватывающая и глубокая книга о человеке, который изменил мир своим гением и трагедией.