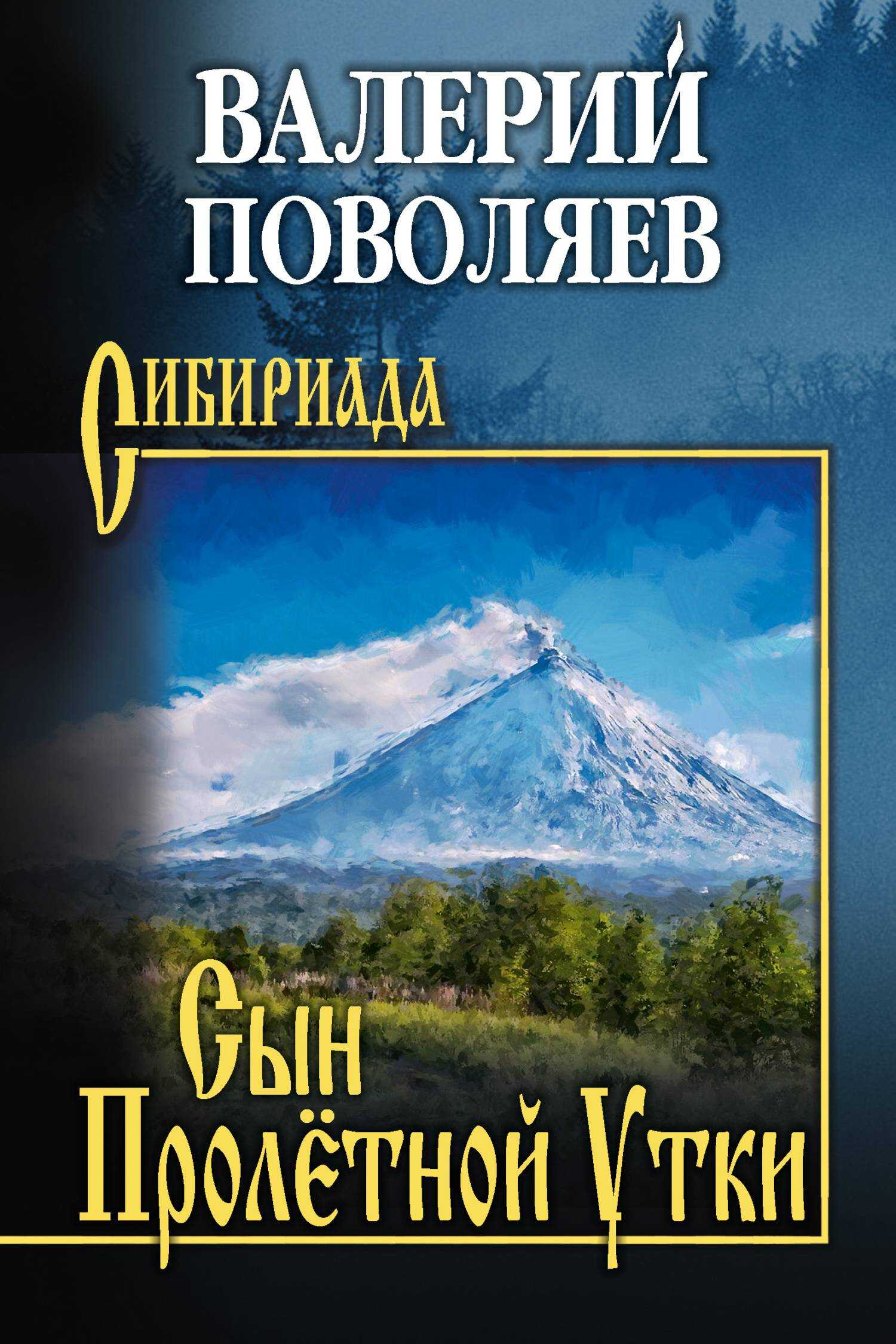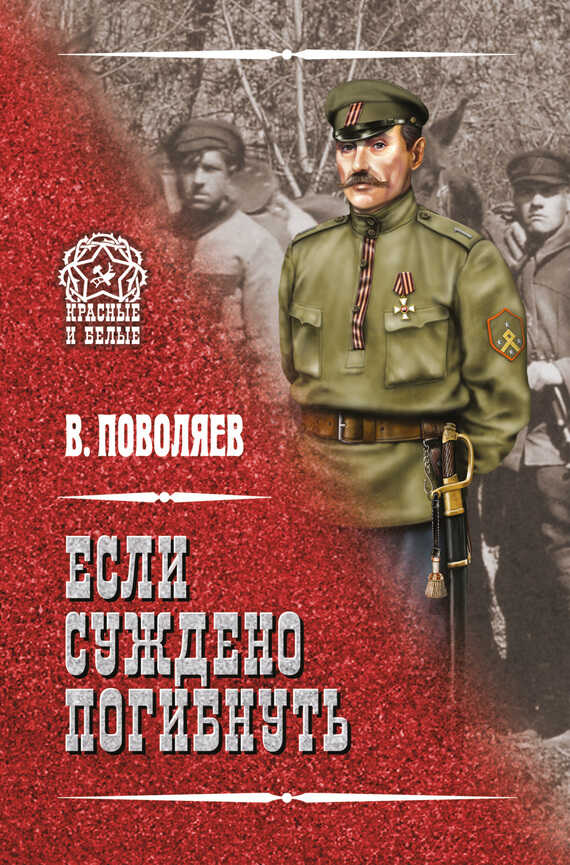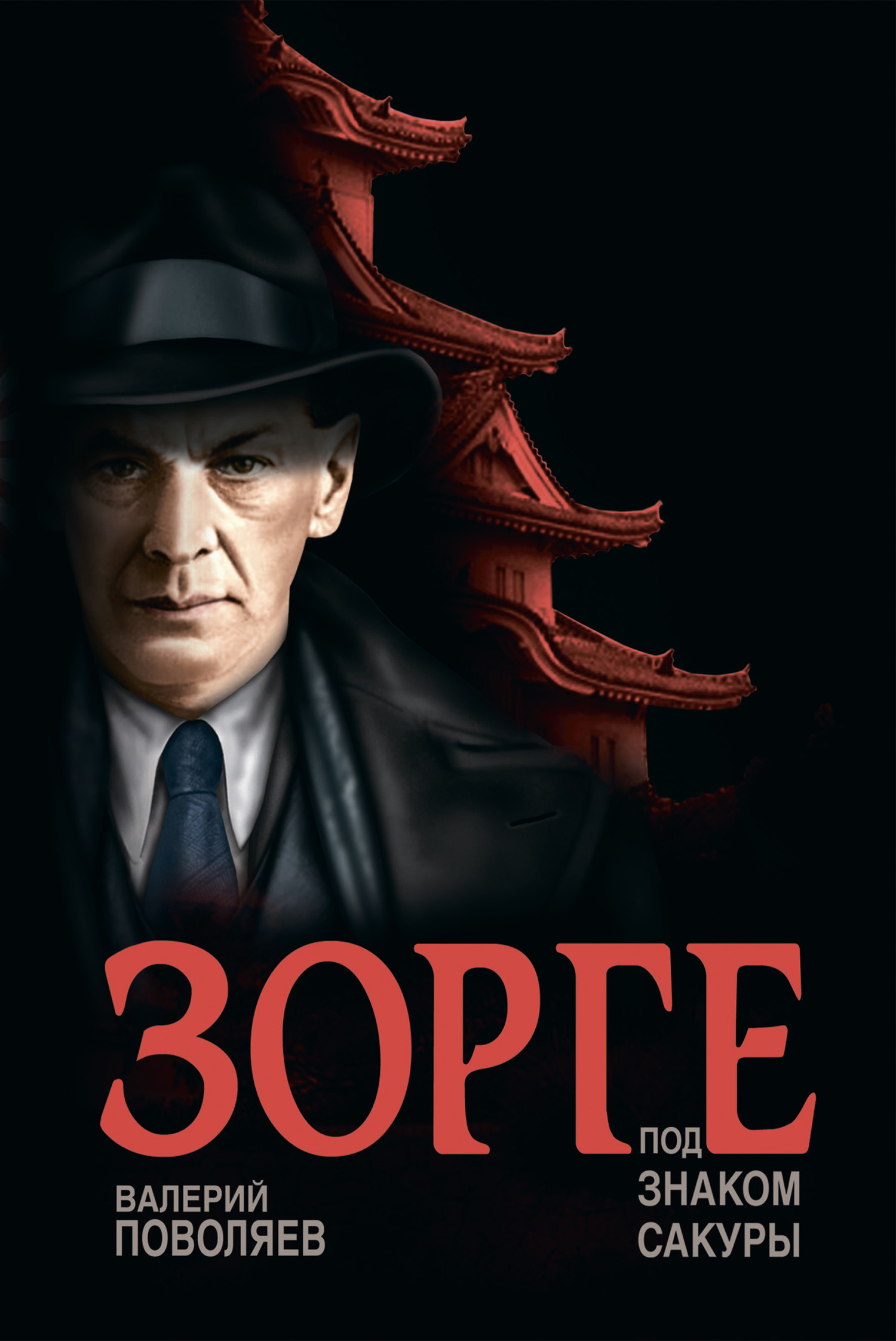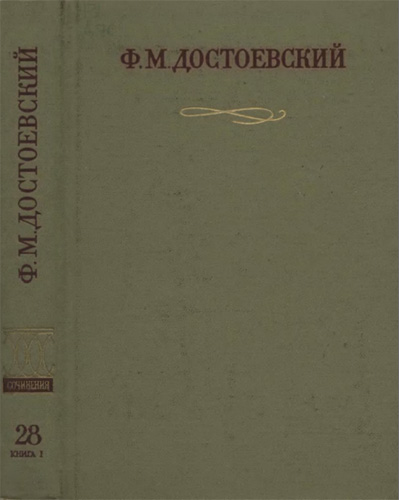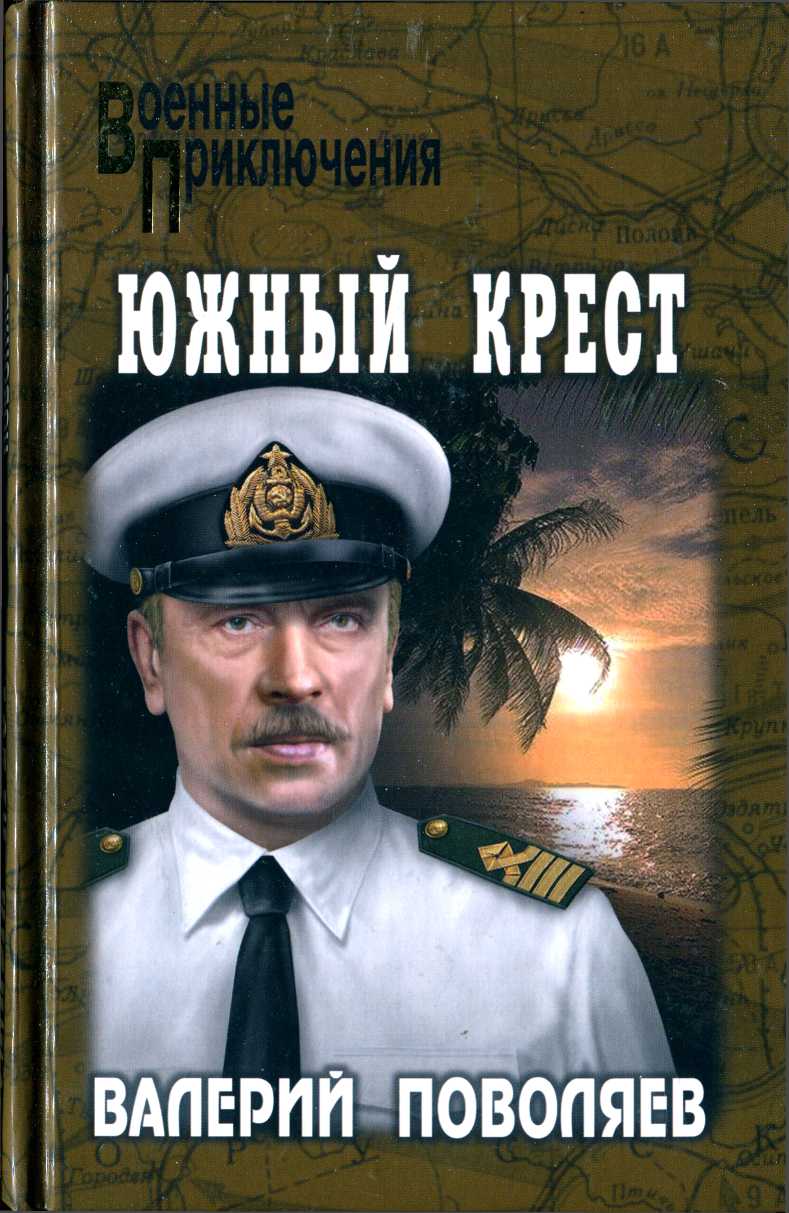Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Тревожное сообщение, поступившее из райотдела милиции, здорово озадачило участкового Шайдукова. В тайге стали пропадать золотоискатели… Среди пропавших числился и Семен Парусников, однокашник Шайдукова по школе-семилетке… Кто же похищает старателей? Гастролеры или беглые зэки?.. А может, свои?.. Отважный участковый отправляется в тайгу, чтобы найти ответы на эти вопросы. Роман признанного мастера отечественной приключенческой литературы, лауреата литературной премии "Во славу Отечества".
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валерий Дмитриевич Поволяев»: