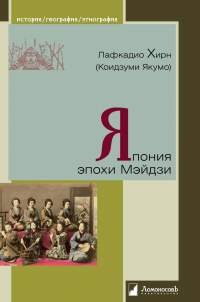Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Мальчуган» – одна из ранних повестей знаменитого японского писателя Нацумэ Сосэки, которая принесла ему популярность и сделала его имя известным в литературных кругах Японии.Юноша-максималист, личность которого только формируется, смотрит на взрослый, живущий по своим законам мир. В силу возраста и характера, мальчуган прямолинеен и открыт новому, однако, окружающие и взрослые видят его недальновидным, а порой глуповатым.Герой живёт в непростое время: эпоха Мейдзи – период стремительных перемен, когда появляются новые взгляды и идеи, и на фоне этого молодому человеку приходится определять для себя, что правильно, а что нет, и каким идеалам стоит следовать.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Нацумэ Сосэки»: