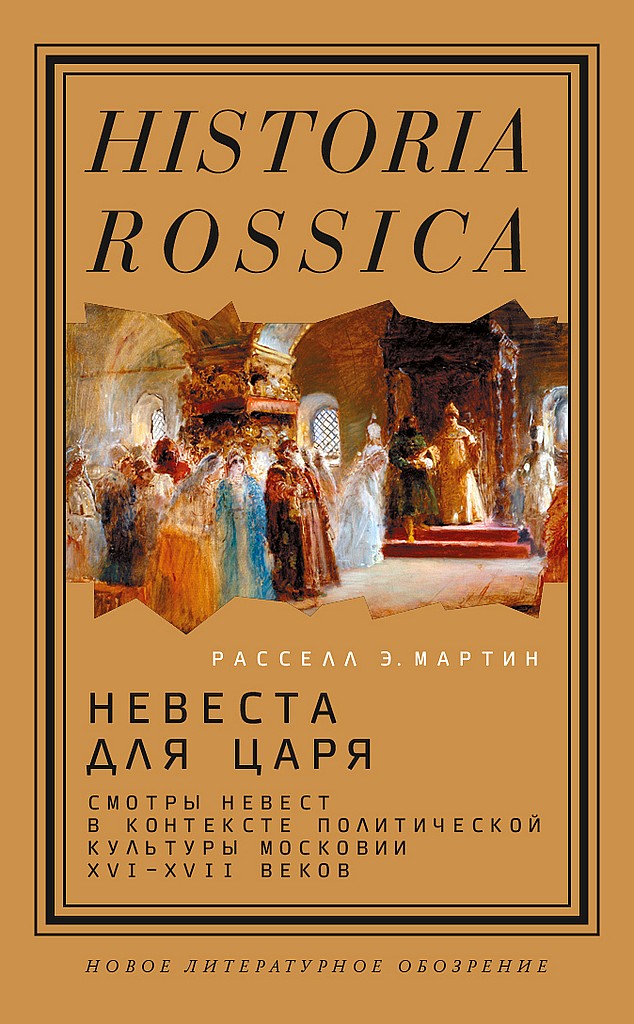Шрифт:
Закладка:
Дорогой читатель!Познакомьтесь с моими героями. Я люблю их — это люди храбрые и честные, их доля — поиск, острейшие столкновения и приключения.Капитан Алимпиев — в трудном плавании к берегам Индии. В его жизни неожиданную роль сыграл корвет «Бриль» — модель старинного парусника…Нелегко вести судно и лоцману Данилину. Фарватер опасен, и не только из-за отмелей, течений и хамсина — африканской песчаной бури…Леонид Ширяев, военный разведчик, поведет вас на розыски знаменитой Янтарной комнаты, похищенной гитлеровцами из Екатерининского дворца в Пушкине, и по следам Кати Мищенко, отважной девушки, работавшей в тылу врага.Подполковник Чаушев — командир пограничников, несущих службу в торговом порту. Что означает таинственный сигнал — два и две семерки, — перехваченный часовым? Это не единственная загадка, над которой ломает голову Чаушев, герой трех повестей, включенных в данный сборник.Буду рад узнать ваше мнение о моей книге.Автор.