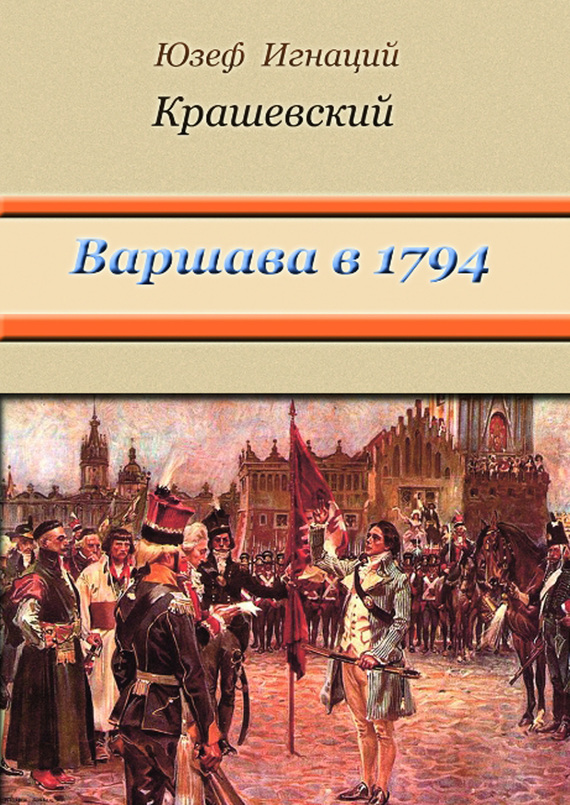Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Конец XVIII века. Индийский город Майсур. Юный резчик по дереву Аббас работает вместе с французским изобретателем Люсьеном Дю Лезом над созданием рычащего механического тигра. Тигр должен стать величайшим сокровищем в коллекции Типу Султана. Однако в Майсур приходят англичане, дворец Типу Султана разграблен, автоматон в качестве военного трофея уезжает в Британию. И Аббас, едва выживший в кровавой бойне, неожиданно понимает, что творец и его творение накрепко связаны друг с другом. Ему приходится отправиться за тигром в холодную и непонятную Европу…Невероятно захватывающий, трогательный исторический роман о чуде истинной любви и о волшебстве таланта, который превозмогает любые обстоятельства и расовые предрассудки.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Таня Джеймс»: