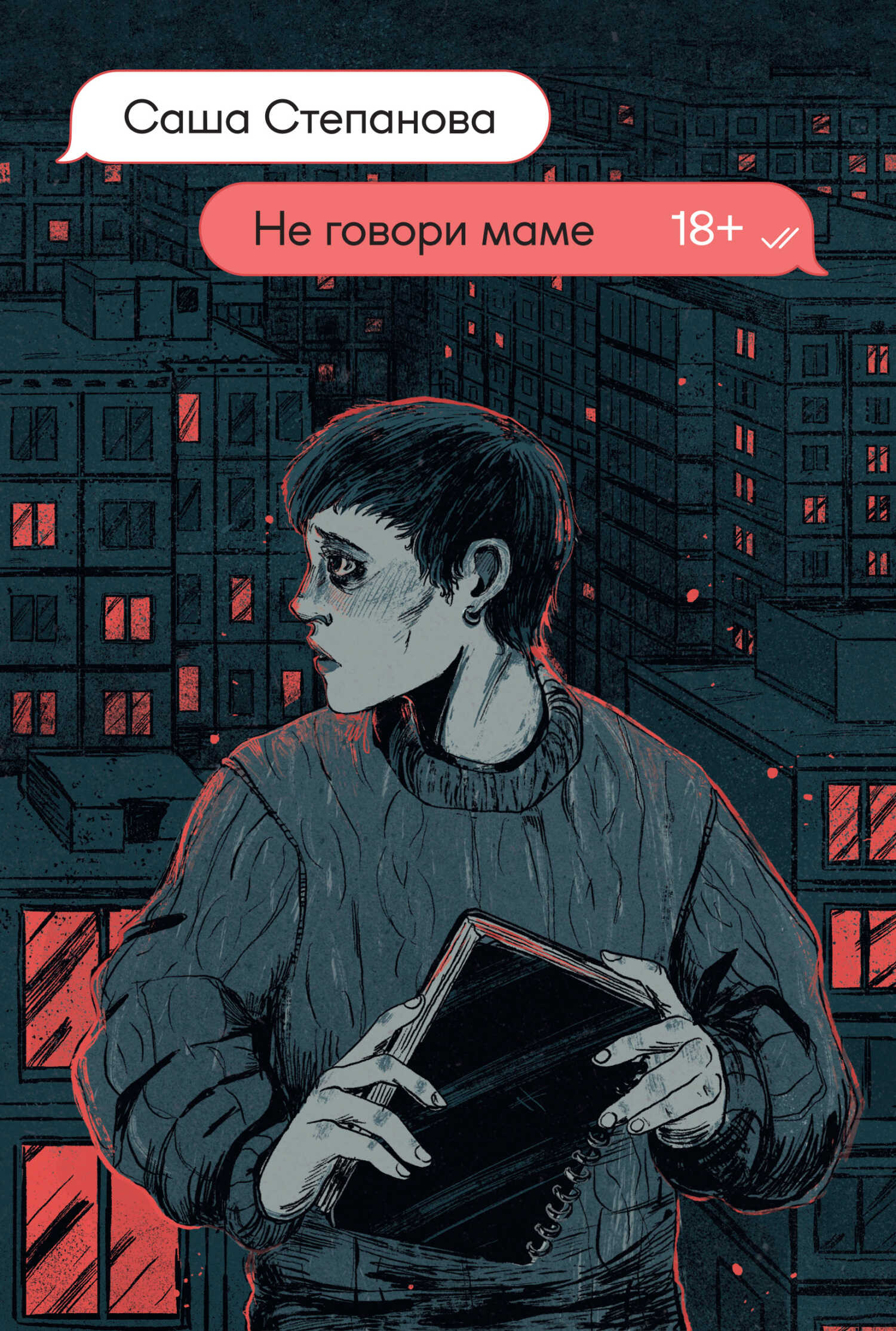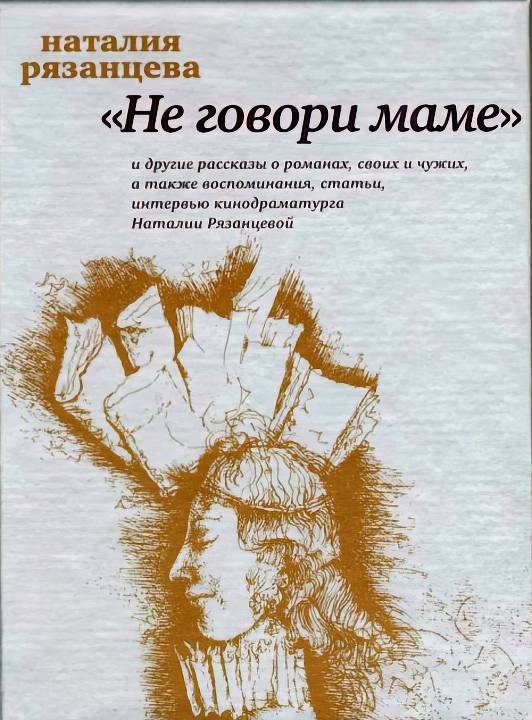Шрифт:
Закладка:
– Не-а, – говорю. – Нет никакой магии. Это полная дичь.
– Она работает, – шепчет Стефа и зябко растирает руки. – Катя загадала поступить в колледж – и поступила. Потом еще она думала, что у нее опухоль, а оказалось – просто воспаление. Захотела стать старостой – и стала. И Джона она любила по-настоящему, вот только он даже не смотрел в ее сторону. Загадала – и нá тебе, чуть не изнасиловал. Но вырвалась и убежала – очень отца боялась. А ведь это Джон ее всему научил.
– Чему именно? – замираю я.
Стефа смотрит на меня осоловелыми от вина глазами:
– Ложиться под поезд в определенном месте. Там раньше было языческое капище для человеческих жертвоприношений. Когда ложишься, ты типа жертва. Понарошку. И можешь загадать что угодно – сбудется.
– Ясно, – говорю я. – Понятно. Значит, она погибла случайно?
– Никто не знает. То ли делала ритуал, то ли Джону мстила. Ну и…
– А Катин отец?
– Джон встречался с ним на болоте, а потом тот пропал. Больше ничего не знаю. Нам домой пора, ребенок скоро проснется.
– Подожди! – Она замирает с моим рюкзаком, не до конца закинутым на спину. – В смысле, подождите вы оба, с Митей. Я переживаю за Илью. Как он?
– Ты… переживаешь за Илью?
Он вылизывал мой чертов ботинок и смотрел на меня заплывшим глазом, как будто подмигивал, вот только он не подмигивал, его избили из-за моих вещей, ни одной из которых он не получил, зато получила ты, так что да, я переживаю за Илью с тех самых пор, как вымыла обувь под краном и надраила ее воском, но так и не перестала видеть его язык и ниточку слюны на шнурках. Определенно.
– Он говорил о тебе, пойдем.
И мы идем с ней и с Митей, который уже открыл умные серые глазенки и помалкивал, глядя то на меня, то на висящую погремушку. Привет, когда-нибудь мы свалим отсюда, только не вздумай намекать на это сейчас, вдруг она понимает больше, чем кажется.
* * *
Коляску она оставляет в темном закутке под лестницей – да не стырят, пусть только попробуют – и с ребенком на руках подходит к неказистой деревянной двери с номером три. Я пытаюсь помочь, но Стефа отталкивает мою руку и справляется с замком сама. Внутри темно и затхло. Сырость, как в погребе, и погребной же запах. Я скидываю ботинки с мыслью, что они, возможно, чище пола.
– Туда иди. – Стефа указывает подбородком на пустой дверной проем и, пока я на цыпочках, стараясь не запачкать носков, крадусь в кухню, уносит Митю в единственную комнату.
Я сажусь на краешек стула и рассматриваю пластиковую клетку: она стоит прямо на полу возле батареи. Под толстым слоем опилок копошится кто-то живой. Пахнет ссаниной и сушеными яблоками – сморщенные дольки разбросаны по противню, водруженному на табурет и нависающему над клеткой с издевательской недоступностью. Я принюхиваюсь, на мгновение учуяв запах газа, но нет – пахнет сушеными яблоками.
Стефа возвращается довольно быстро. Бу́хает на плиту сковородку, тычет спичкой в конфорку. Огонь загорается с громким хлопком, но Стефу это не пугает: она невозмутимо достает из шкафчика банку тушенки, несколько секунд глядит на нее, покачивая в ладони. В следующее мгновение хватает вилку и пытается вскрыть ею банку. Ничего не получается, и вот она уже отбрасывает вилку и берется за нож. Снова ничего. В ход идут ее собственные зубы. При этом она настолько забавно кривляется, что я рассмеялась бы, не напоминай она до ужаса в этот момент своего брата. Если бы я не видела их вдвоем в тот вечер, когда меня ограбили, то решила бы, что никакой Стефы нет.
– Это ты сейчас. – Она показывает банку. Я ничего не понимаю. – Но Джон не отстанет, пока не… – И достает из ящика консервный нож.
Я вздрагиваю, когда из дыры брызжет сок.
– Дошло? – спрашивает она резко.
– Джон безобидный. Он ничего мне не сделает.
– Еще скажи, что вы… – Тушенка с шипением шлепается на раскаленную сковороду. – Просто друзья-а.
– Так и есть.
– Вика и Стаська ему надоели. Они его сучечки. – Тут она вдруг высовывает язык и дышит по-собачьи. Не понимаю, это страшно талантливо или просто страшно. – Делают все, что он скажет, даже друг с другом, а потом сидят за разными партами.
Смешав с тушенкой комок слипшихся макарон, Стефа переставляет противень с сушеными яблоками прямо на хомячью клетку и садится на освободившийся табурет. В ее пальцах появляется сигарета.
– А тут ты, – договаривает она, щелкнув зажигалкой. – Да ты его уже бесишь.
– Я справлюсь.
Вслед за скрипом половиц из темноты коридора появляется заспанный Илья. На нем спортивные брюки и расстегнутая куртка, под которой белеют бинты.
– Даров, – говорит он сипло и салютует мне двумя пальцами. Достает из холодильника пакет молока, прикладывается к нему, запрокидывает голову и жадно глотает – я вижу, как на его тощем горле дергается кадык и как из уголка его рта стекает белая капля.
– Как ты?
– Нормас.
– Ешь садись, – командует Стефа. – Я спать.
Илья занимает ее табурет и тоже закуривает. Дышать уже невозможно. Я смотрю на него и не знаю, о чем говорить. Просить прощения? Глупо как-то. Вряд ли он захочет вспоминать о том, что было на стройке. Стефа сказала, он спрашивал обо мне. Зато теперь молчит и явно не рад моему появлению.
Раз так, то обсуждать здоровье нет никакого смысла.
– Чем ты занимаешься, кроме учебы? – Он поворачивается ко мне, глаза его пусты. – Что тебе интересно?
Илья не отвечает и ковыряет пальцы, можно подумать, я прошу его вычислить на доске предел функции.
– Ты неплохо рисуешь, – говорю я беспомощно. – А музыка? Какая тебе нравится?
– Ну Билли Айлиш.
– Мне тоже! А любимый трек?
Вместо ответа несмешной шут короля Джона качает сальными волосами. Безнадежно.
– Я пойду, ладно? Рада, что с тобой все в порядке.
– А пожрать?
Те самые несчастные макароны, которые отрубленной головой скатились в сковороду из замызганной кастрюльки. Я сыта одной только мыслью о них, но мне жаль Илью, и я остаюсь перед тарелкой с полустертым золотым ободком, один на один с перспективой увидеть то, как он ест, и почему-то это волнует меня куда сильнее вкуса того, что предстоит есть мне самой.
В другой вселенной Илья мог бы стать моделью-андрогином.
Он кладет локти на стол и нависает над тарелкой, а вилку держит тремя пальцами за самый кончик. Долго копается в макаронах, будто пытаясь отыскать под ними фуа-гра, в конце концов ниточки тушенки образуют отдельный холмик. К своей тарелке я не притрагиваюсь. Чувствую себя вуаейристкой в этой тишине, нарушаемой только постукиванием его вилки. От Ильи пахнет по́том, а бинты вблизи оказываются не такими уж белыми. Я вдруг представляю нас вместе – целую жизнь, проведенную напротив него в сумрачной кухне, клеенка липнет к пальцам, он ест, а я смотрю на него, как смотрела в каждый из этих дней, мы оба ничего не добились, у нас только мы и эта кухня, а больше и не надо – выпить чаю, убрать посуду, лечь рядом, включить телевизор…
– Вы со Стефой очень похожи, – заговариваю я, чтобы звуком голоса прогнать «нас» и вернуть себя и его. – И такие странные. Вам, наверное, скучно в Красном Коммунаре.
– Нормас. – Дожевав, он все-таки договаривает: – Она в театральный хотела поступать, но теперь у нее Митька.
– А ты?
– В Москву свалю, когда бабло будет.
– И что ты там будешь делать?
– Хэзэ. Мужика найду. Или двух. – Вторая личина проступает под первой и прячется обратно. Примерно так в фильмах ужасов показывают вселившегося в человека дьявола. У Ильи достаточно задатков, чтобы влипнуть в самую дурную историю, а с «уроками» Джона его шансы взлетают до небес. – А ты оттуда же, да?
– Я оттуда же, да.
Снова карябает вилкой по дну тарелки. Можно было не тратить на него тушенку, раз он ее не любит.
– И че, как?
– Хорошо, если у тебя есть жилье и работа. Плохо, если их нет. Завтра, кстати, еду домой по делам.
Он вскидывает голову:
– Одна?
Тоскливо так: вроде уже и сам знает, мог бы не спрашивать.
– Ну погулять в центре не получится, но, если хочешь, можем поехать вместе!
В его глазах вспыхивает нечто похожее на жизнь и моментально гаснет.
– Я куплю