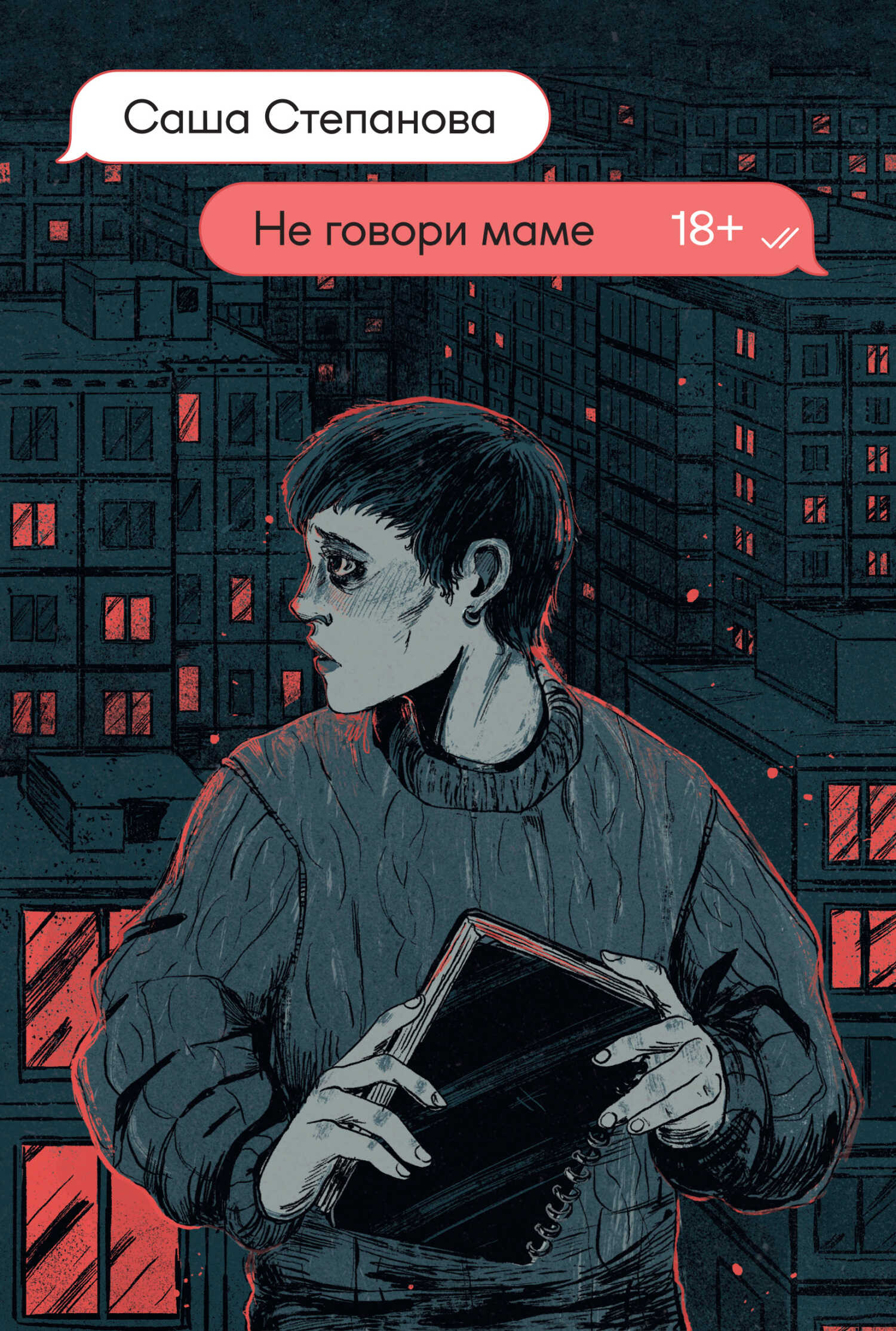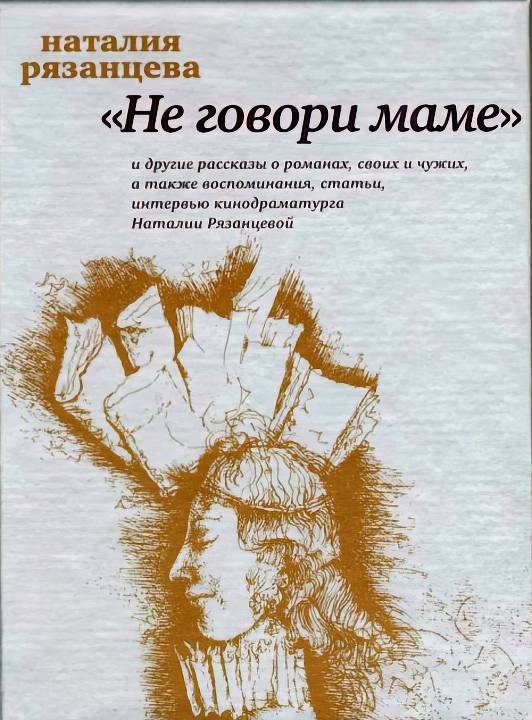Шрифт:
Закладка:
* * *
– Где ты ее взял?
– Где-то, – отмахивается Джон. – Запрыгивай.
– Серьезно?
Продуктовая тележка выглядит так, словно в последний раз на ней перевозили слона. Хуже точно не станет, решаю я и забираюсь в нее с ногами.
– Только не гони! А-а-а! Не гони-и!
На нас все оглядываются. Наверняка думают, что мы пьяные или просто психи. Тележка скрипит, но терпит. Джон паркует ее возле прилавка с хозтоварами и подает мне руку.
– Нет, не могу, – пищу я. – Страшно.
– Я держу, вылезай.
– Она покатится, не могу!
Продавщица усердно притворяется, что не замечает нас, Джон хватает меня за талию и делает только хуже – перекидывает через плечо, словно товар. Я взвизгиваю – теперь мне реально неловко – и брыкаюсь, к прилавку подходят люди, еще немного, и кто-нибудь вызовет охрану.
– Дурак, – говорю я тихо, когда он наконец ставит меня на пол. За его плечом – высокий мужчина с лицом как на иконе, даже бородка такая же, а рядом – Савва из «Печатной». Савва поспешно отворачивается, поймав на себе мой взгляд. От его отца, резчика по дереву, невозможно отвести глаз. Ловлю себя на мысли, что, если бы он сказал мне все то же самое про магию и изменение будущего, я бы поверила. И еще отчего-то неловко перед самим Саввой. Хотя с чего бы?
Они покупают невероятных размеров мешок стирального порошка и расплачиваются. Перед тем как уйти, Савва почти незаметно кивает мне, но я не успеваю ответить тем же: отец и сын явно спешат.
– Знаешь Терпигорева? – цедит Джон. Только тогда я вспоминаю, зачем мы вообще сюда пришли, и достаю из заднего кармана джинсов сложенный вчетверо список покупок.
– Не особо. – Я вообще не сторонник того, чтобы болтать о людях за их спинами, а Савву и его «Печатную», единственный уголок города, в котором мне было хорошо, хочется оставить себе.
Пока мы упаковываем все, что я называю продавщице, в пакеты, Джон хранит молчание, но заметно, что слова копятся в нем и вот-вот найдут выход.
Это происходит, когда мы оставляем тележку и покупки переходят в руки Джона – он не позволяет мне ничего нести, а мне совесть не позволяет его тут бросить. Если бы не совесть, то вместо того, чтобы тащиться в гараж, я с радостью поехала бы домой.
– Долбаные сектанты, – не выдерживает Джон. – Воскресные чтения Библии. Половина города уже этой хуйней страдает, и всем срать.
– Страдает чтениями Библии вместо того, чтобы бухать, так?
Джон резко останавливается, и у меня мелькает мысль, что, если сейчас он бросит пакеты на землю, развернется и уйдет, не будет у меня ни гаража, ни распродажи. Но он только смотрит на меня светлыми от злости глазами и кривит губы, а ветер яростно треплет его острую от геля челку.
– Ты ничего не понимаешь.
На этом конфликт вроде бы исчерпан, и мы продолжаем путь, но через несколько шагов он снова замирает и смотрит на меня все так же неприязненно.
– Сам отнесу. Не провожай.
И уходит. А я остаюсь. Подхватываю сумку, которая спадает с плеча, наблюдаю, как уезжает мой автобус, и медленно иду в другую сторону. Яниной мамы на площади нет, и это к лучшему – только ее протянутой руки мне сейчас не хватало. Чертова сумка. Завтра куплю себе новый рюкзак.
Изо всех сил стараясь вообразить себе «прекрасное завтра будущего», я иду через сквер – выложенная брусчаткой дорожка упирается в щербатые ступени здания с колоннами. Тот самый Дом культуры. Сейчас он выглядит необитаемым: никто не заходит и не выходит, окна темны. Я смотрю в них, как смотрят в глаза человеку, подмечая его недобрый взгляд, и укрываюсь за гранитной стелой, установленной в память о краснокоммунарцах, погибших на фронте, – от собственной ассоциации мне становится не по себе. На пустынной аллейке меня резво обгоняет женщина с коляской. Ее спина чем-то притягивает: заставляет пойти следом и даже ускорить шаг.
Зеленый рюкзак с енотами и круглым логотипом «Канкен». Мой рюкзак!
– Стефа?
Она вздрагивает и сжимается, как если бы я с размаху зарядила ей между лопаток камнем, а затем пускается бежать. Свернуть при этом не догадывается: мы вращаемся вокруг стелы и, должно быть, выглядим довольно комично. Такие себе Том и Джерри, причем, учитывая соотношение роста и массы наших тел, я определенно кот. Ей не составило бы труда оторваться, если бы не коляска, но даже с ней она невероятно проворна. Круге на пятом под мое «просто поговори-ить» она наконец замечает лазейку и улепетывает по одной из дорожек, лучами расходящихся от стелы, – но попадает в западню. Зебра здесь есть, однако перекресток не регулируется, и никто не торопится пропускать пешеходов. Стефа загнанно озирается – теперь я вижу, что это действительно она, синяк в пол-лица побледнел, но не исчез, – и прет через дорогу. Если ее сметут с зебры, она, конечно, окажется потерпевшей, вот только кому от этого легче?
«Если едешь в левом ряду, – говорил мне инструктор по вождению, – а в правом кто-то притормаживает – на всякий случай сделай то же самое. Он может видеть то, чего не видишь ты. Например, пешехода».
«Логан» в правом ряду притормаживает, но я вижу то, чего не видит Стефа, – летящий по левой полосе внедорожник.
Время не замедляется, мысли не становятся вязкими. Ничего не меняется, я просто в два прыжка оказываюсь рядом, хватаю ее за рюкзак, а коляску – за ручку и рывком втаскиваю их обратно под защиту «Логана». Ветер от промчавшегося внедорожника бьет нам в лица. Мужик за рулем «Логана» вытирает лоб, пожилая дама на пассажирском сиденье смотрит на нас не моргая.
– Спасибо, – говорю я им. – Спасибо. – Даже кланяюсь и разворачиваю коляску обратно. Сестра Ильи молча семенит рядом и не пытается ее отобрать.
Мы медленно, потому что ноги меня не держат, возвращаемся к Дому культуры. Там я выпускаю коляску из рук и сажусь на ступени.
Стефа оседает рядом. Лицо у нее белее белого.
– Рюкзак не отдам. На прогулке удобно, все помещается.
– Да по фигу. – Я прячу лицо в ладонях и слышу собственное сердцебиение. – Как зовут ребенка?
– Митя.
– Классное имя. А я Майя. Зарецкая.
– Так ты… – вспыхивает Стефа. Она хорошенькая, могу понять, почему Дима на нее повелся: острые скулы, яркие брови, очень похожа на Илью в его второй ипостаси. Интересно, что она об этом думает. Но спрашивать сейчас не хочется. А Стефа тянет: – Твою ма-ать…
И в точности моим движением закрывается руками.
– Я думала, ты новая сучка Джона, – выдает она. – Просто проучить тебя хотела. Но чтоб не трогали. Я попросила, чтоб не трогали.
– Благодарствую! – Уж не челом ли тебе за это отбить? – Ладно, выяснили. Я не новая сучка Джона, а новая Зарецкая. Хоть и не понимаю, почему сучек Джона нужно наказывать экспроприацией.
Молчит. Моргает.
– Грабить, говорю, зачем?
– Потому что Джон ебанутый. – Звучит как нечто само собой разумеющееся. – Он Катьку и отца ее убил.
– Стой. Подожди.
Там, под синтетическим пологом цвета моря, который видел фиг знает сколько младенцев, лежит избежавший смерти Митя, и мне бы не хотелось, чтобы он слушал брань. Пусть даже он ее и не разумеет. Я заглядываю в коляску, чтобы убедиться в крепкости сна Мити, но убеждаюсь только в одном: он не похож ни на Диму, ни на Стефу, ни тем более на меня – а похож только на довольного жизнью лягуха, который чиллит в ситуации, способной кого угодно заставить наложить в штаны, прибухнуть или закинуться веществом из сказки с дурным концом. Спи, Митя. Ты знаешь, это лучший способ пережить любую жизненную фигню.
Когда я оборачиваюсь, Стефа уже цедит что-то из детского термоса.
– Винишко. Будешь?
Пакетированная кислятина. Мне нужно время, чтобы протолкнуть отпитое внутрь себя и не опозориться. Стефа истолковывает мою гримасу по-своему:
– Я не кормлю его грудью, че я, больная, что ли.
– Окей. Ты про Катю, которая попала под поезд? И ее отца?
– Джон втянул Катьку в свою херню с поездами. – Митя в коляске начинает хныкать, словно в знак протеста против знакомства с миром, в котором есть Джон и херня с поездами, но быстро успокаивается. Боюсь, эта покладистость не появилась из ниоткуда. – Точно знаю. Она сама говорила. Еще он пытался с ней переспать, но она его послала, потому что ее отец ходил к Терпигореву вместе с моим. Им там мозги промывают, они потом верят, что,