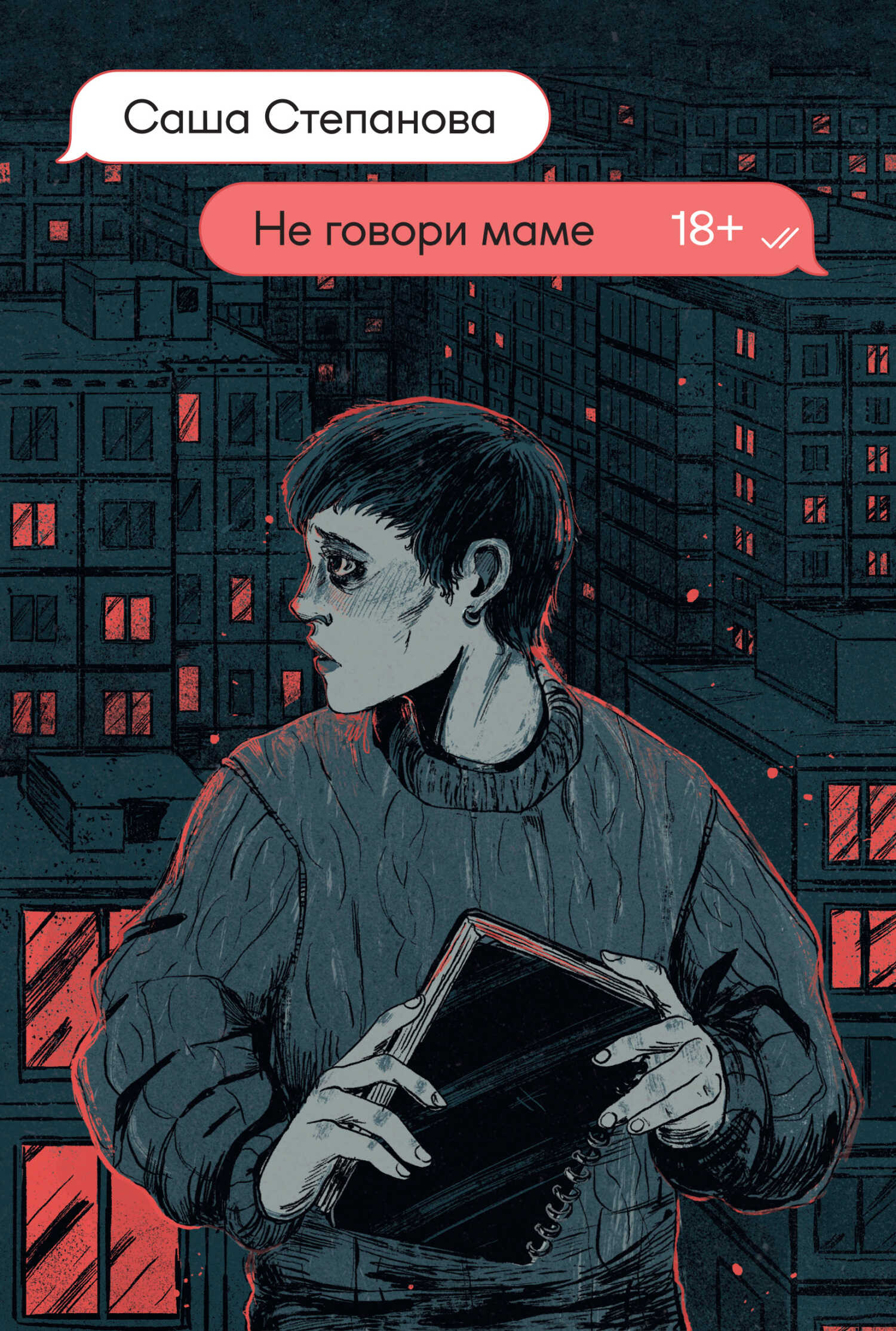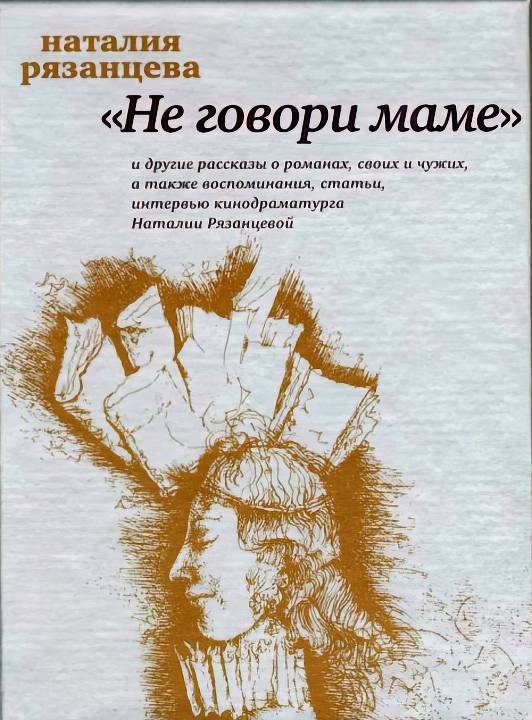Шрифт:
Закладка:
Думаю, Мартин Лютаев купился именно на эту кажущуюся простоту: наш сложный противоречивый мир удобно разделился на черное и белое. Студент, которого еще недавно возили лицом по бетону в “Яме”, получил идею, несколько приемчиков и нож, назвал себя “санитаром”, избранным и пошел убивать бездомную бывшую учительницу Анну Николаевну Нелидову, потому что ему не за что было ее уважать…»
Я помню, в тот вечер Март был занят: Прости, сегодня встретиться не получится, задержусь в тренажерке.
Прости, но, если ты не приедешь прямо сейчас, я выйду из окна. Я уже открываю его, слышишь? Да. Вот так. Внизу все такое маленькое. И холодно, очень холодно. Я буду ждать тебя здесь, Март. Тут, на подоконнике. Приезжай. Мне очень многое нужно тебе сказать.
Я должна была сказать так или, возможно, иначе, чтобы только он остался тогда со мной, не увидел бездомную учительницу, не нашел ее, но вместо этого я ответила: Да, хорошо. Еще немного почитаю и лягу. Скучаю очень. До завтра!
От духоты начинает болеть голова. Все чаще кажется, что я напрасно взялась за подкаст о Марте и всех этих людях. Его уже нет. Даже могилы не осталось – кремировали тайно, боялись, что информация о дате и месте похорон попадет в СМИ и церемонию сорвут или сделают что-нибудь похуже.
Мне написала Алина, сводная сестра Марта. Раньше я никогда с ней не общалась, знала только, что она есть. Мы встретились в центре буквально на полчаса: она сказала, что я могу прийти на кремацию, но, если решу иначе, никто не осудит. Еще сказала, что всегда чувствовала в Марте что-то такое. Что он способен убить человека. И не удивилась, когда все выяснилось. Наверное, рассуждала она спокойно, ему отомстили. Кто-то из родственников этих бездомных – у бездомных ведь обычно есть родственники, ты это знаешь? Необязательно никто их не любит. «Мне совсем его не жаль. Если бы его не убили, ты бы и дальше думала, что он нормальный. Может, замуж бы за него вышла».
Я приехала в крематорий поздно, гроб был уже закрыт. Все происходило очень тихо. Алина переписывалась с кем-то в телефоне, будто вообще случайно зашла и ужасно спешит; мама и отчим Марта держались за руки, я хотела подойти, но они посмотрели на меня как на чужую, не узнавая, и я осталась у дверей. Не верилось, что внутри этого лакированного ящика действительно Март – вроде близко, но так далеко. Я принесла цветы, они остались в моих руках. Родной отец не счел нужным приехать на похороны сына. Подумалось: «Его здесь нет» – не про отца, а про Марта. Когда гроб поставили на транспортер, Алина поднесла к уху телефон, громко сказала: «Алло» – и вышла из зала. Без нее стало легче, я смогла подойти к родителям и неловко из-за их спин прошептала соболезнования. Мама Марта опустила руку с платком.
– Значит, так нужно, – сказала она. – Так правильно.
И я поняла, что не было у нее никакого сына – только дочь. В этой семье никогда не рождался мальчик по имени Мартин. Он станет тайной, тем, кого нельзя называть. Размышляла ли она, как можно было не заметить такое? После того как мне позвонил следователь Масленников и рассказал, кем на самом деле был Март, я перестала спать и постоянно переслушивала наши голосовые за тот период, когда все уже было, и пыталась уловить это в его голосе. Но нет, ничего, ничего. У него не было ни одного из симптомов депрессии: снижение активности, апатия, слабость, появление зависимостей, избегание социума, снижение самооценки, – а главное, он не стал другим. Вообще не стал другим.
«Какой-нибудь бывший зэк. Или нет, полицейский, точно! Только не местный – из провинции, может, даже из деревни, – азартно, будто сочиняя сюжет для романа, говорила Алина на той нашей встрече. – Такому проще вычислить и убийцу, и его адрес. Позвонил в дверь, назвался участковым, Март впустил его, пригласил на кухню, а тот его ножом по горлу – и конец. Его никогда не найдут, а если и найдут, то не выдадут. Кому охота вообще расследовать убийство такого, как мой братец? Может, это и есть правосудие. Ты никогда не думала, что для некоторых лучше вернуть смертную казнь?»
Я так не думала, но прошло несколько месяцев, а убийцу Марта так и не нашли, у них даже подозреваемого не было. Русских и Ремизов после суда отправятся в колонию. Не лучше ли забыть эту историю навсегда? Сжечь записи, стереть переписку – сделать как собиралась и жить себе, радуясь тому, что никто меня не узнаёт. Зачем все это?
Я смотрю на одну из фотографий Анны Николаевны. Обычный школьный снимок: двадцать первоклашек и она. Нашу с Мартом первую учительницу звали Елена Максимовна. Светловолосая, маленькая мама Лена. Старшеклассниками забегали к ней в кабинет на втором этаже и смотрели сверху вниз. Она, конечно же, знает о том, что случилось с Мартом. Я представляю, как он избивает ее, и сжимаю кулаки. Что, если ему отомстил кто-то из тех выросших детей, называвших Анну Николаевну мамой Аней? Впрочем, нет, так не бывает. У всех своя жизнь. Никто не готов ломать ее из-за первых учителей.
Я укладываю голову на подушку и лежу с закрытыми глазами, чувствуя, как в черепной коробке перекатывается ото лба к затылку тяжелый равнодушный шар. Отнять жизнь. Целую огромную жизнь. Холод, тепло, вкус, запах, воспоминания. Имя. Боль, город, лица прохожих, почерк, голос мамы, слезы, оргазм, чтение. Выбор. Фотографии. Возможность посмотреть на свою ладонь. Отражение в зеркале. Волосы. Цвет нового платья. Тяжесть одеяла, горячий чай, рецепт пирога с клубникой…
Исполнитель желаний
Объявление, приколотое к пробковой доске на первом этаже, поначалу остается без внимания. Но когда я сдаю куртку в гардероб и возвращаюсь к расписанию, чтобы уточнить номер кабинета, оказывается, что перед «лишними вещами» уже стоит высоченная девчонка в круглых очках. Из-под ее вязаной шапочки выбиваются ярко-рыжие кудри. Мы точно виделись раньше. В «Печатной». Когда она достает телефон, чтобы записать номер, у меня вспыхивают щеки. Только теперь я действительно понимаю, что «вещи» будут, и эйфория нового приключения накрывает меня с головой.
– Подойдут любые, – говорю я, слегка задыхаясь. – Главное, не рваные, чтобы в них еще могли ходить люди.
Она оборачивается и приподнимает брови.
– Ты и есть Майя? Привет! Я Маша. – Мы обмениваемся рукопожатием. – Классная идея. Правда, я собиралась принести рваные джинсы…
– Джинсы нормально, – поспешно заверяю я и, кажется, краснею еще больше. – Их же не мышь прогрызла?
Маша хохочет так искренне, что я и правда чувствую себя шутницей.
– Обычно я сдаю все старое в переработку, – поясняет она, отсмеявшись, – но продать и помочь кому-то – это еще лучше.
– В переработку? – Меня интересует не процесс, а то, что в Красном Коммунаре такое вообще возможно, но Маша этого не угадывает.
– Не совсем, конечно. Что-то попадает в секонды, что-то – на пошив разных нужных штук вроде подстилок для приютских собак. А совсем старье – да, перерабатывается в волокно.
– Так ты их в Москву отвозишь?
– Ага. – Она снимает шапку и растрепывает пальцами примятые волосы. – Это не так уж запарно, как правило, один нетяжелый пакет.
Вдруг,