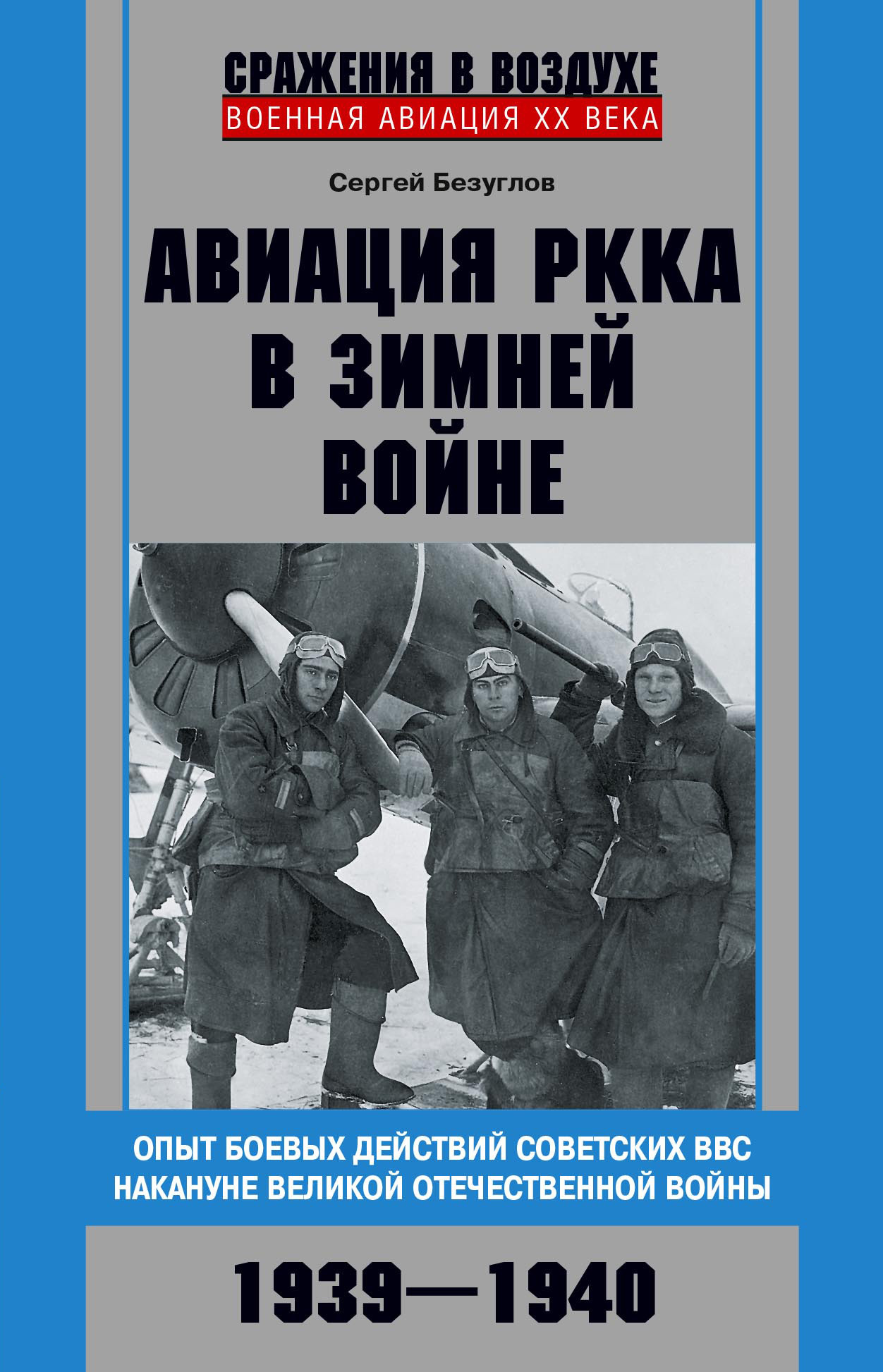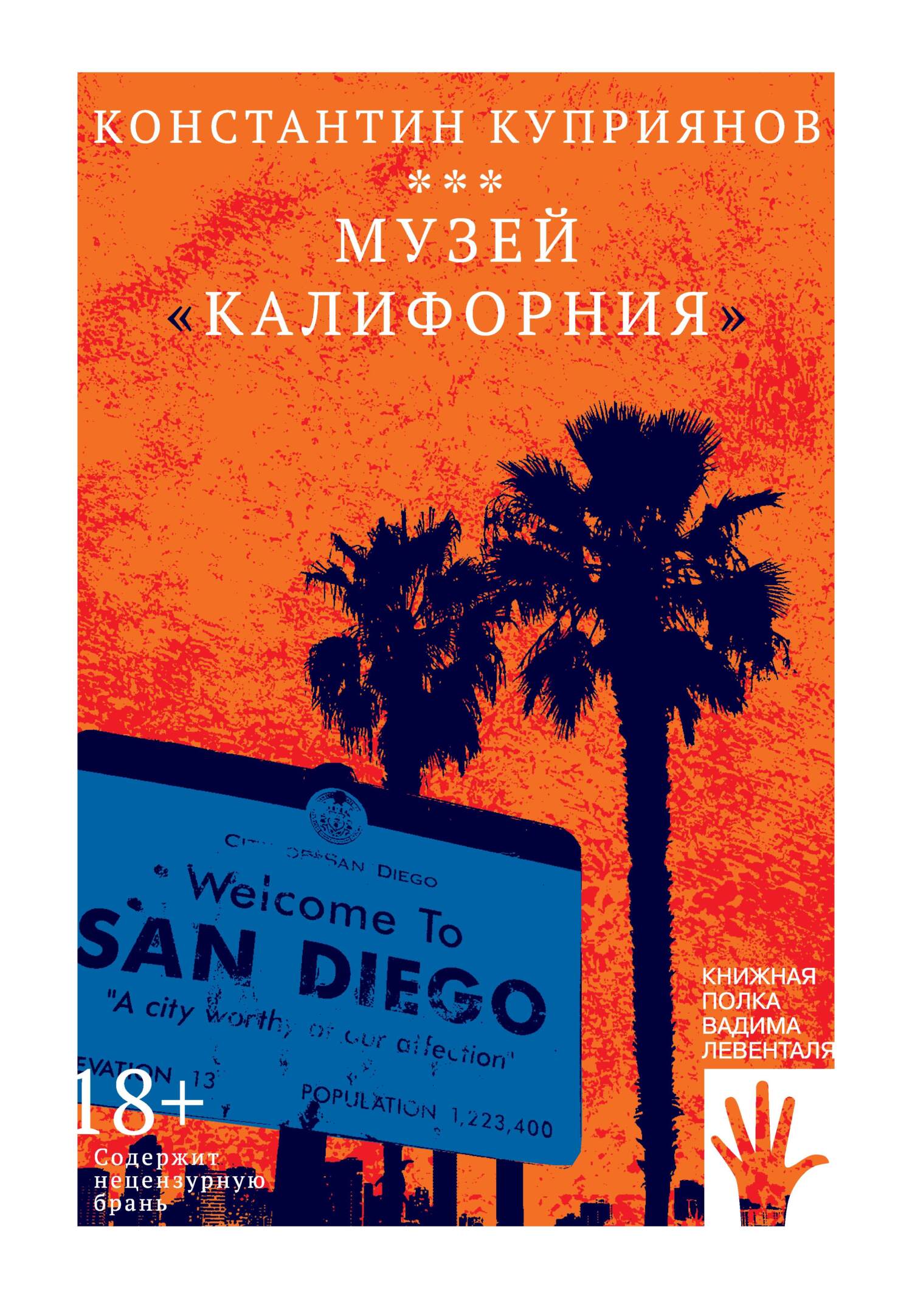Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман основан на материалах реальных уголовных дел, в расследовании которых автор принимал активное участие. Повествование развивает сюжетные линии книги «В понедельник дела не делаются». Место действия — среднерусская провинция. Совершённое в канун нового тысячелетия двойное убийство даёт очередной импульс противоборству организованных преступных группировок. Бандитскому беспределу противостоит упорная повседневная работа сотрудников милиции, прокуратуры и ФСБ, успеху которой мешают межведомственные склоки, коррупция в собственных рядах и несовершенство закона.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Юрьевич Макаров»: