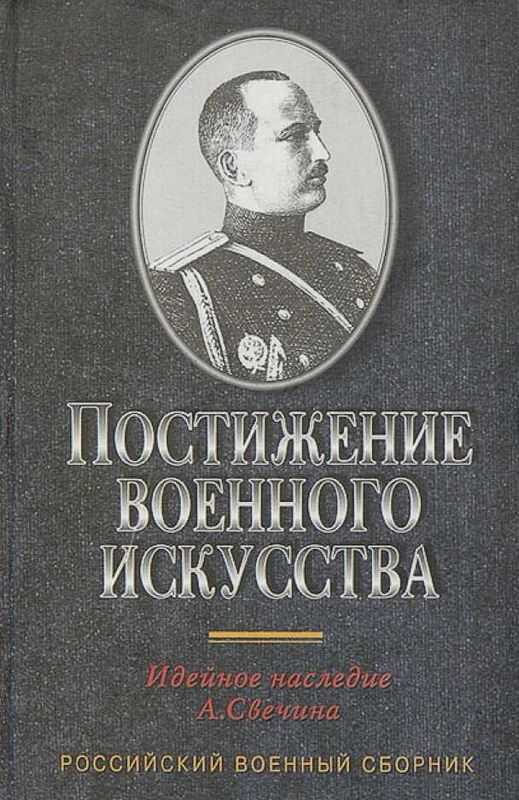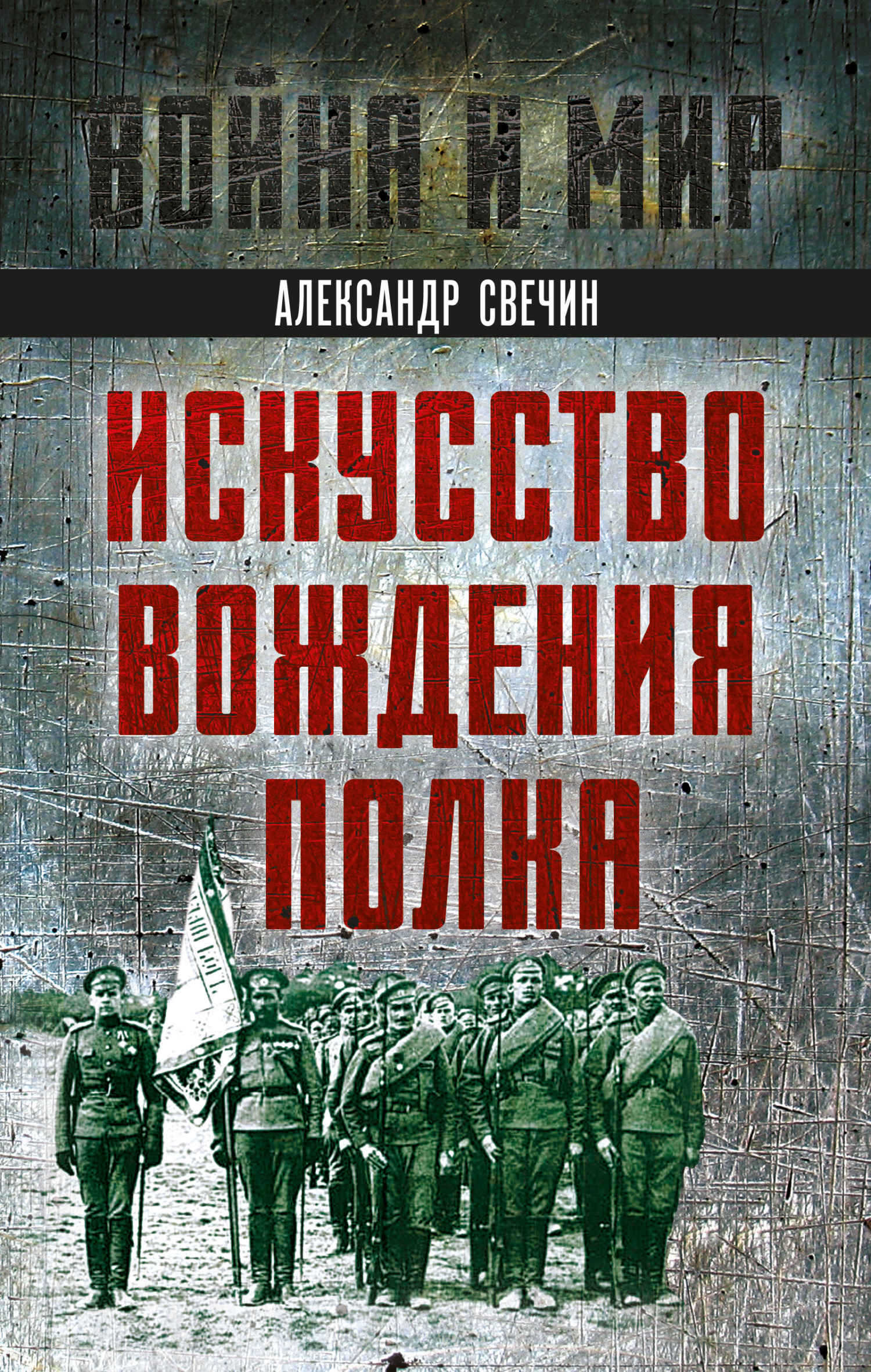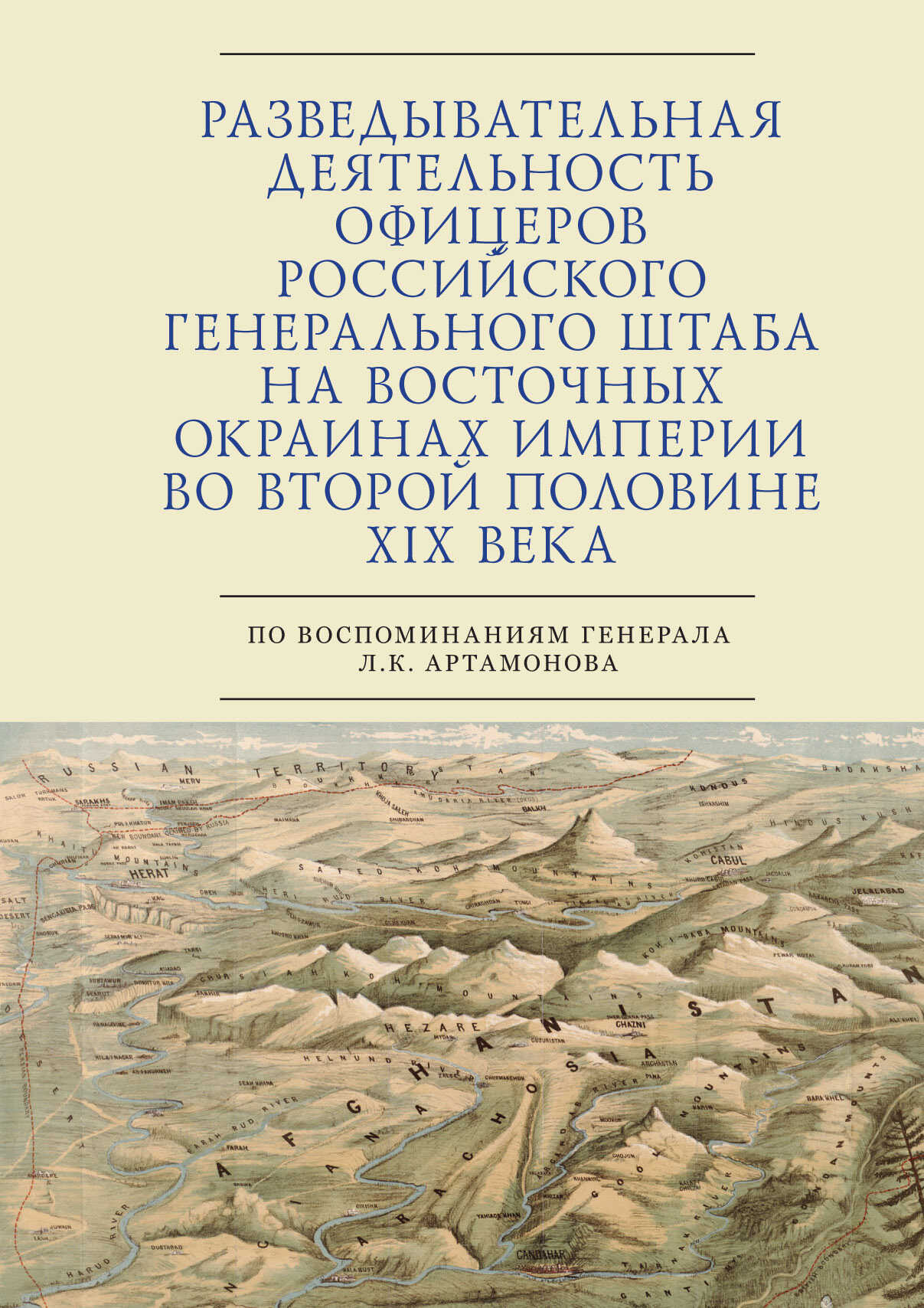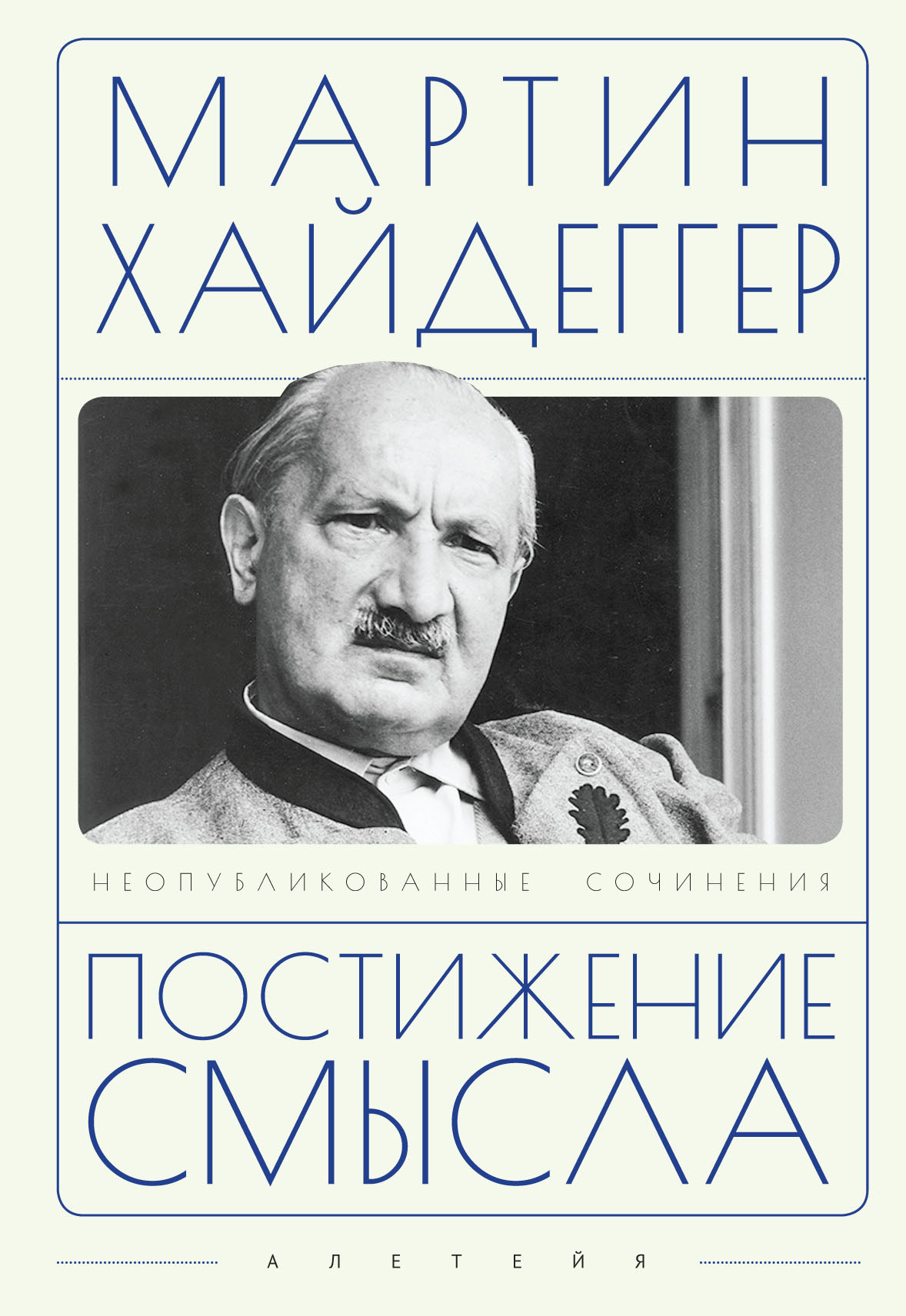Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга посвящена памяти выдающегося русского офицера Александра Андреевича Свечина (17/29 августа 1878 — 29 июня 1938). Обширное творческое наследие военного классика представлено наиболее примечательными его статьями, фрагментами из книг. Основополагающие мысли и идеи Свечина систематизированы в разделе «Армия думает — и потому прогрессирует и побеждает». В заключение известный военный историк А.Г. Кавтарадзе приводит и документально подтверждает уникальные сведения из биографии «русского Клаузевица», по достоинству так и не оцененного в родном Отечестве. Для всех интересующихся русской военной мыслью.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Андреевич Свечин»: