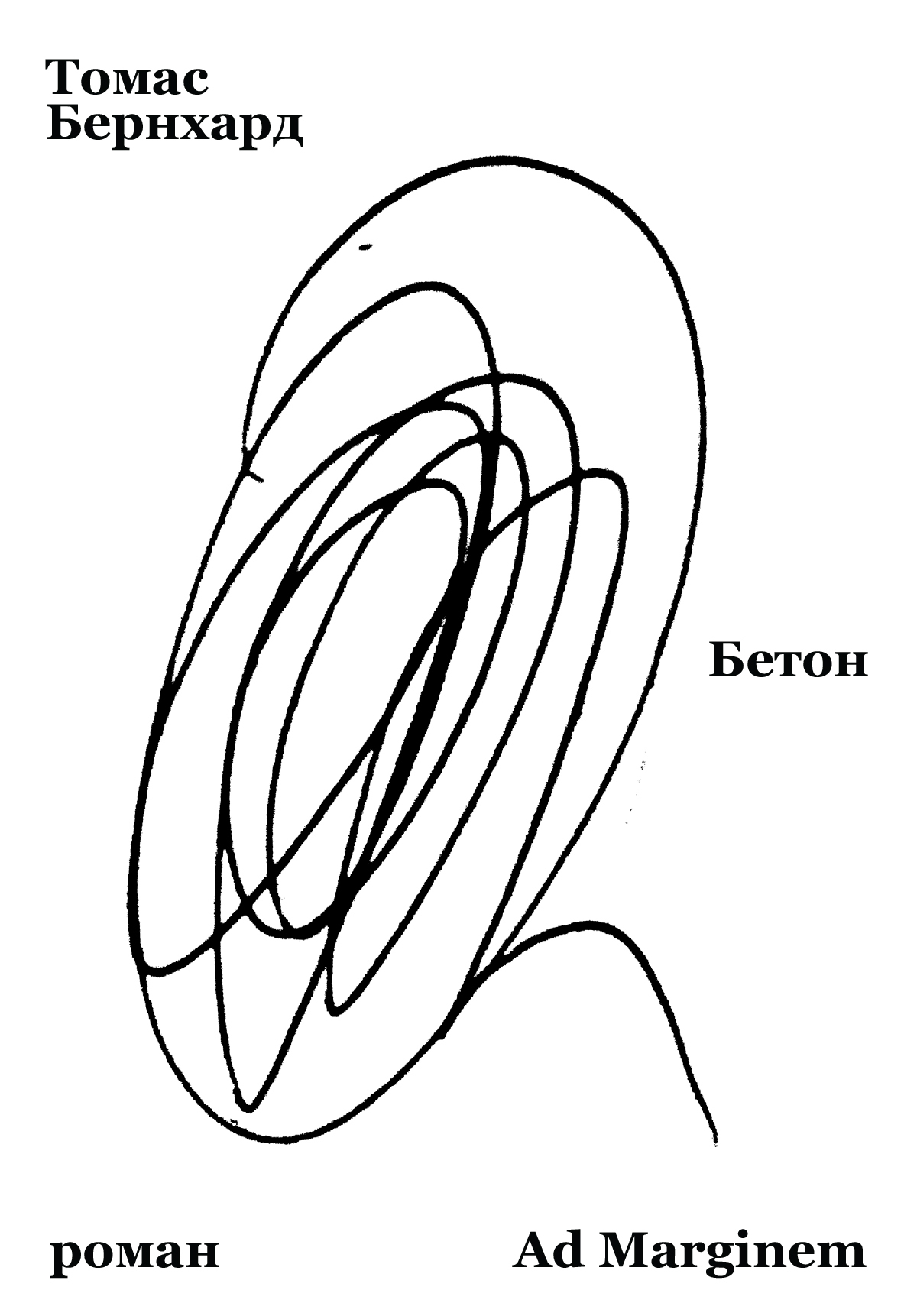Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Аргонавты» Мэгги Нельсон — текст на стыке жанров, автотеоретическое высказывание о желании, идентичности, создании квир-семьи, ограничениях и возможностях любви и языка. Работая в традиции публичных интеллектуалов, таких как Сьюзен Сонтаг и Ролан Барт, Нельсон сплетает историю своих отношений с художником Гарри Доджем с исследованием того, что культовые теоретики говорили о сексуальности, гендере, институте брака и материнстве. Это вдумчивая и бескомпромиссная книга о радикальной свободе и ценности заботы о другом.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Мэгги Нельсон»: