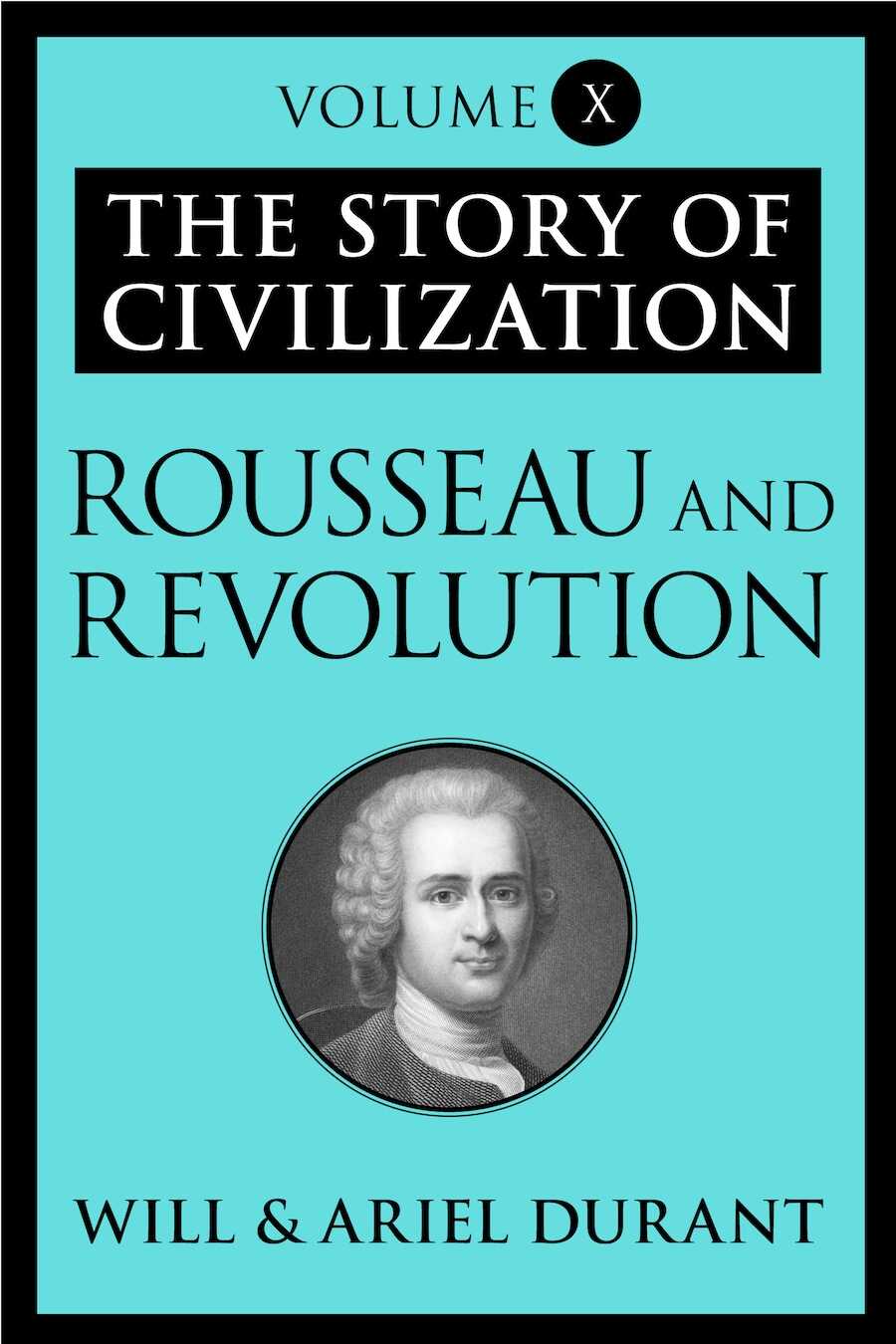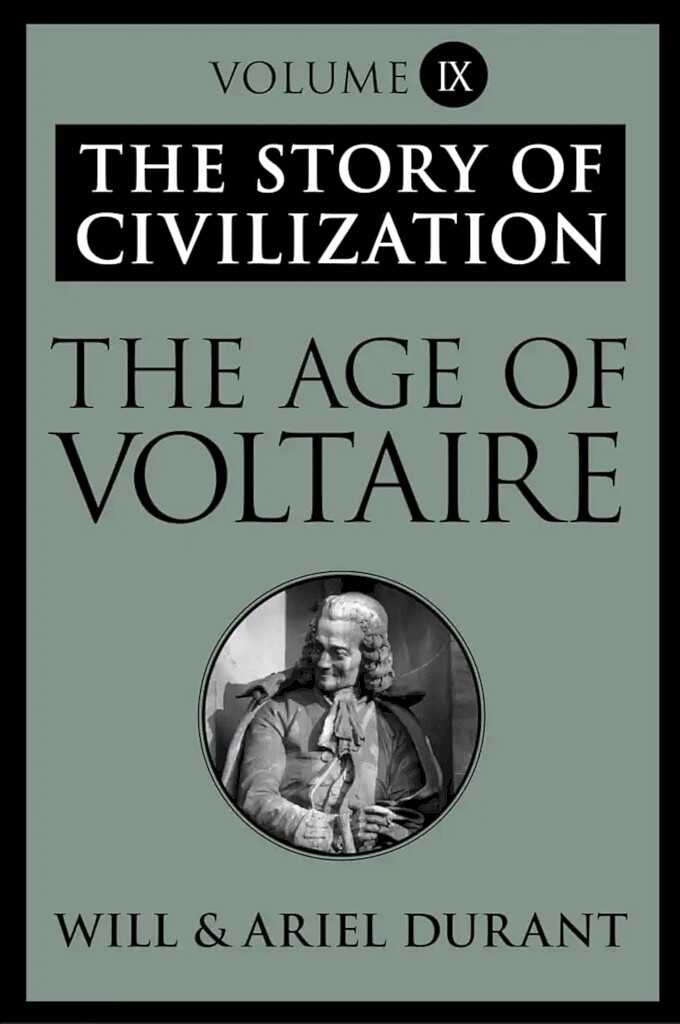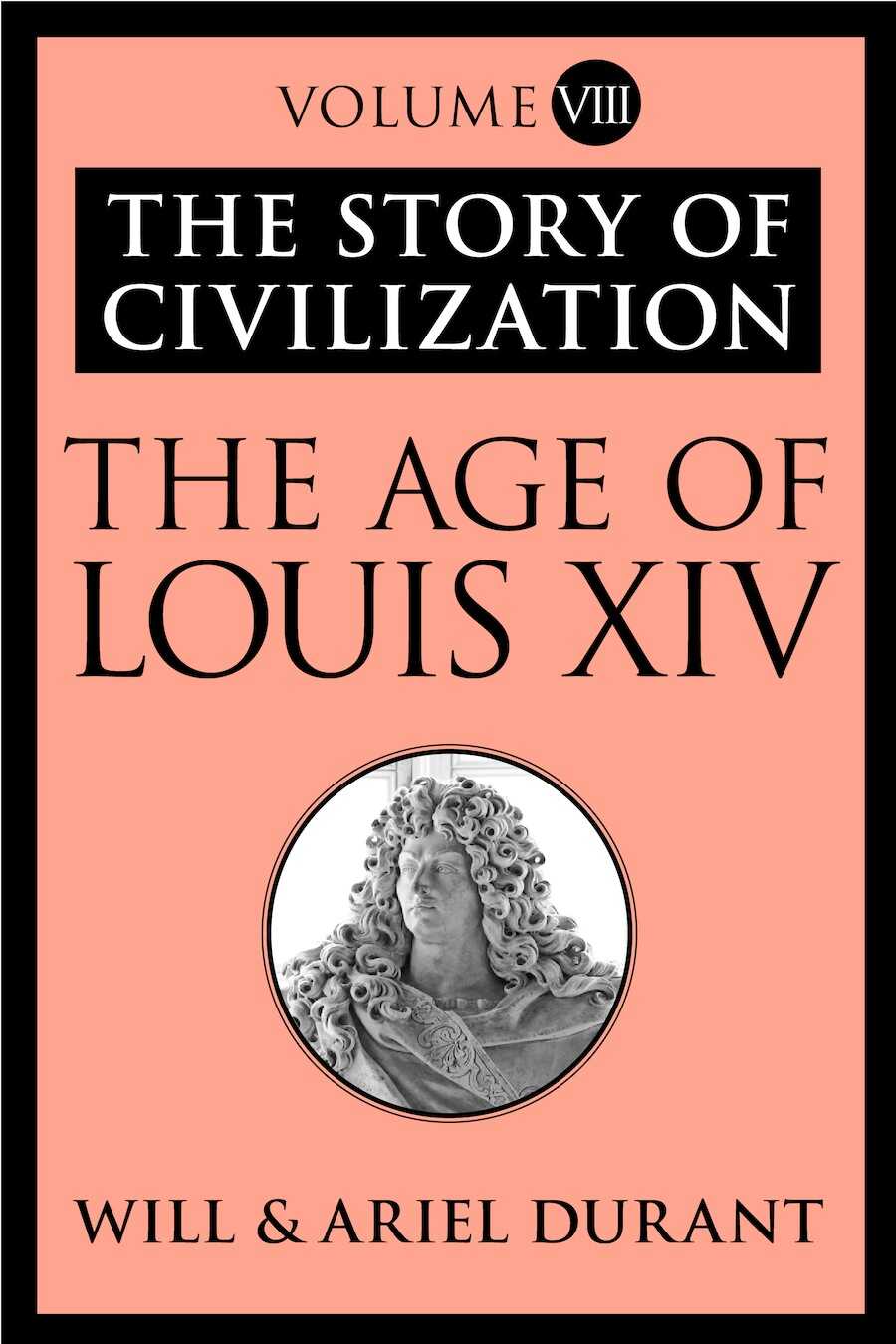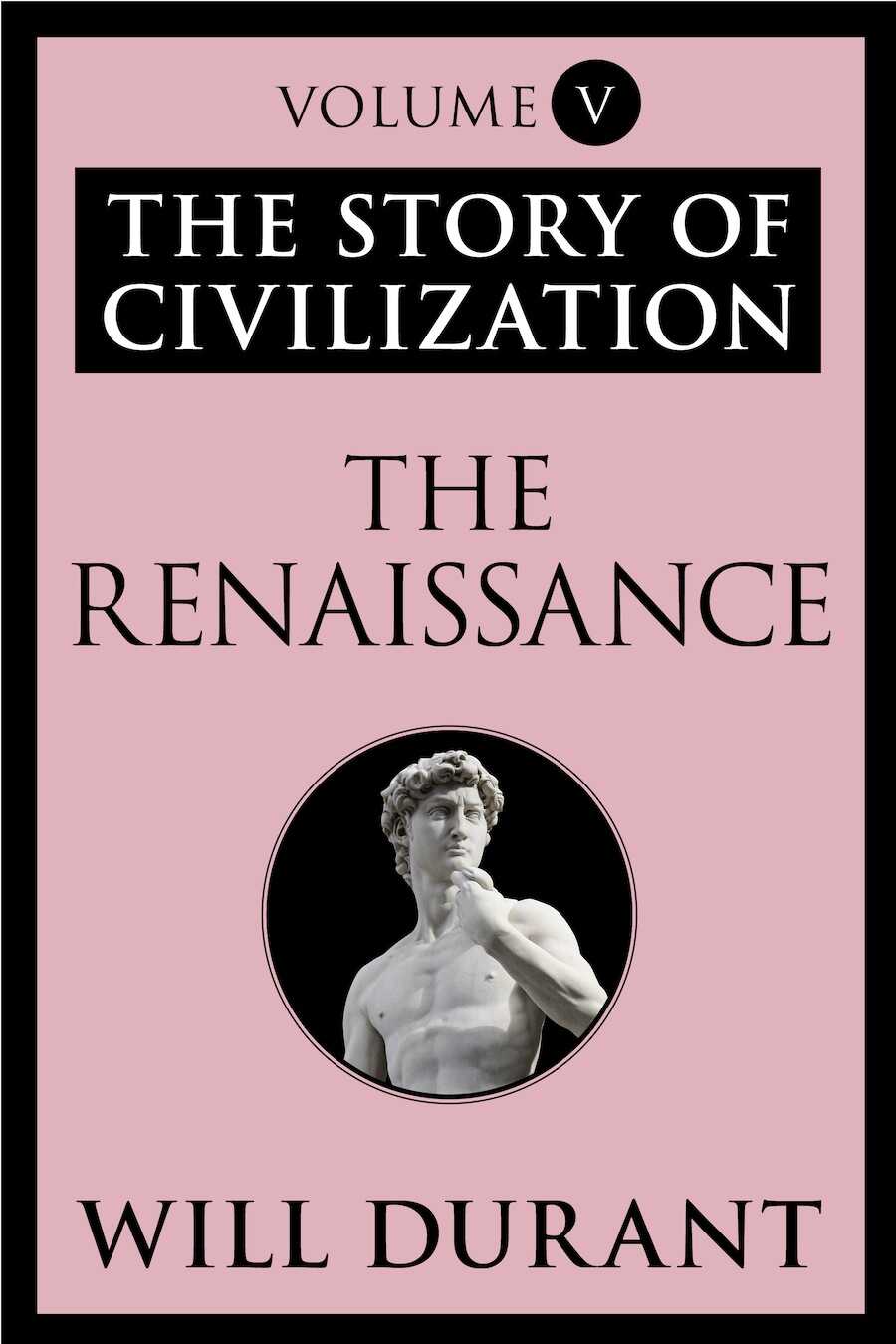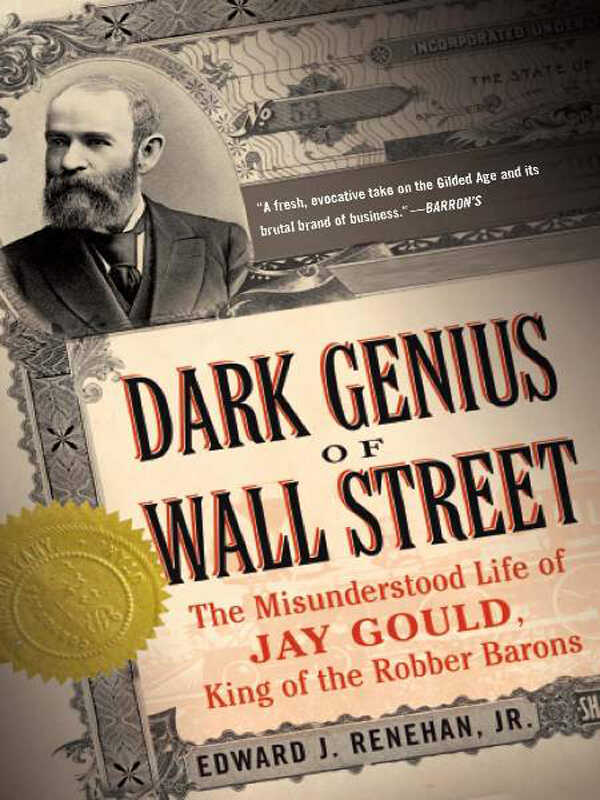Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Век Вольтера» — биография великого человека и эпоха, которую он олицетворял. Мы становимся свидетелями сатирических выступлений Вольтера в салонах и театре, а также его изгнания в Англию. Вместе с ним мы исследуем сложные взаимоотношения между дворянством, духовенством, буржуазией и крестьянством во Франции времен Людовика XV. Мы исследуем музыку Баха и борьбу между Фридрихом Великим и Марией Терезией Австрийской. И, наконец, мы слышим воображаемую дискуссию между Вольтером и папой Бенедиктом XIV о значении и ценности религии.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Уильям Джеймс Дюрант»: