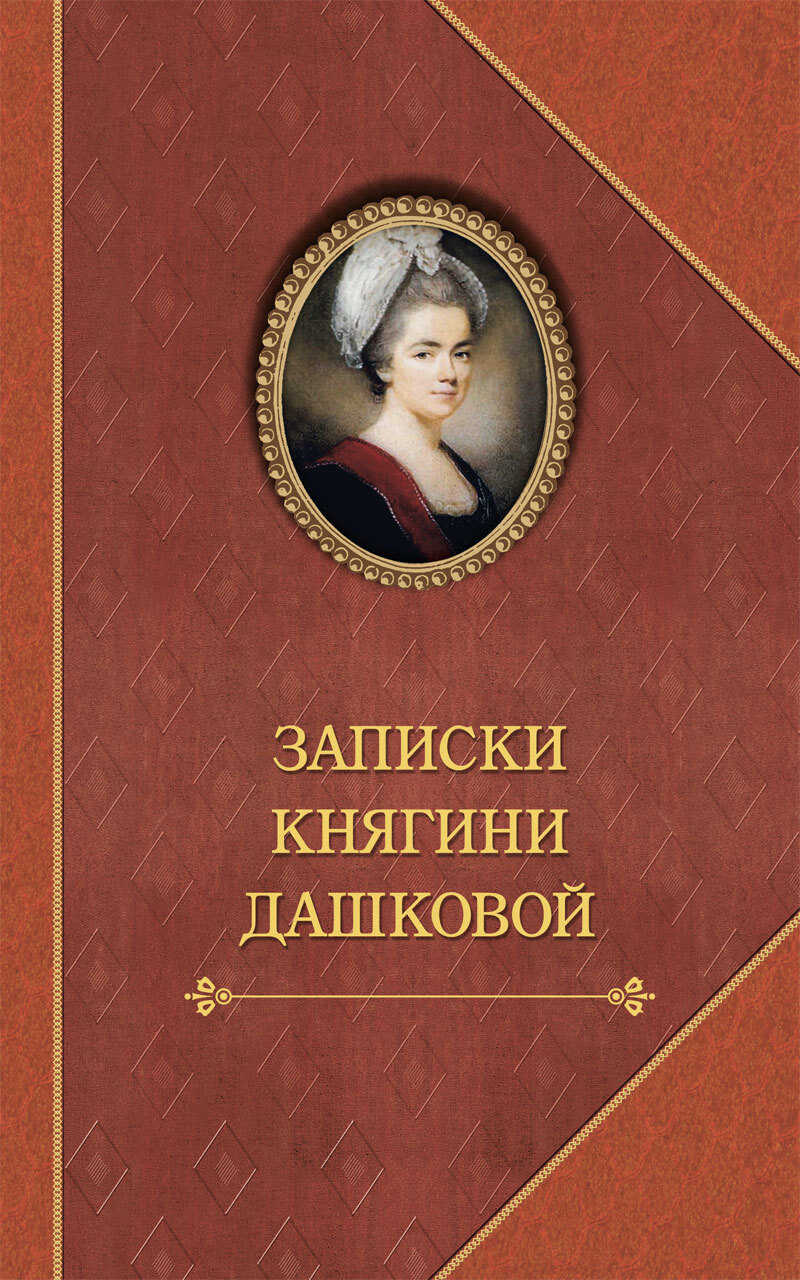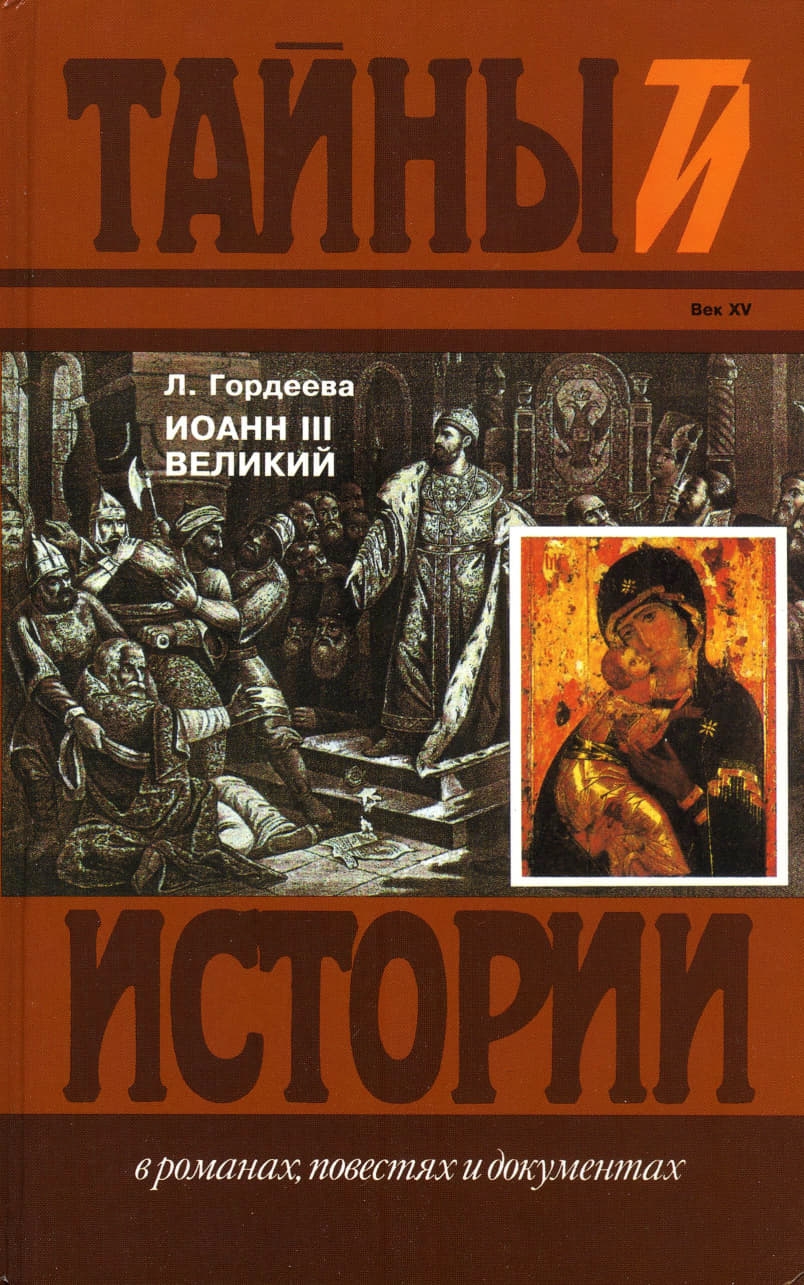Шрифт:
Закладка:
Камергер, которого назначил он накануне своим генералиссимусом, был послан с этим письмом, в то время как придворные поспешно оставляли императора, стремясь поскорее умножить новый двор Екатерины.
В ответ императрица послала к нему для подписания отречение следующего содержания:
«Во время кратковременного и самовластного моего царствования в Российской империи я узнал на опыте, что не имею достаточных сил для такого бремени и управление таковым государством не только самовластное, но какою бы ни было формою превышает мои понятия, и потому и приметил я колебание, за которым могло бы последовать и совершенное оного разрушение к вечному моему бесславию. Итак, сообразив благовременно всё сие, я добровольно и торжественно объявляю всей России и целому свету, что на всю жизнь свою отрекаюсь от правления помянутым государством, не желая там царствовать ни самовластно, ниже под другою какою-либо формою правления, даже не домогаться того никогда посредством какой-либо посторонней помощи. В удостоверение чего клянусь перед Богом и всею вселенною, написав и подписав сие отречение собственною своею рукою».
Чего оставалось опасаться от человека, который унизил себя до того, что переписал своею рукою и подписал такое отречение? Или что надобно подумать о нации, для которой такой человек был еще опасен?
Тот же самый камергер, который доставил отречение Петра императрице, скоро возвратился назад, чтобы обезоружить голштинских солдат, которые с бешенством отдавали свое оружие и были заперты по житницам; наконец он приказал сесть в карету императору, его любовнице и любимцу и без всякого сопротивления привез их в Петергоф. Петр, отдаваясь добровольно в руки своей супруги, был не без надежды.
Первые войска, которые он встретил, никогда его не видали; это были те три тысячи казаков, которых нечаянный случай привел к сему происшествию. Они хранили глубокое молчание и не причинили ему никакого беспокойства. Но как скоро увидела его регулярная армия, то единогласные крики «Да здравствует Екатерина!» раздались со всех сторон, и среди этих-то новых восклицаний, неистово повторяемых, проехав все полки, он лишился памяти.
Подъехали к большому подъезду, где при выходе из кареты его любовницу подхватили солдаты и сорвали с нее знаки отличия. Любимец его был встречен криком ругательств, на которые он отвечал им с гордостью и укорял их в преступлении. Император вошел один. Ему говорят: «Раздевайся!» И так как ни один из мятежников не прикасался к нему, то он сорвал с себя ленту, шпагу и платье, говоря: «Теперь я весь в ваших руках».
Несколько минут сидел он в рубашке, босой, на посмеяние солдат. Таким образом Петр был разлучен навсегда со своей любовницей и своим любимцем, и через несколько минут все трое были вывезены под крепкими караулами в разные стороны.
Петербург со времени отправления императрицы в Петергоф был в неизвестности и двадцать четыре часа не получал никакой новости.
По разным слухам, которые ходили по городу, предполагали, что при малейших надеждах император найдет еще там своих защитников. Иностранцы были не без страха, зная, что настоящие русские, гнушаясь и новых обычаев, и всего, что приходит к ним из чужих краев, просили иногда у своих государей в награду позволения перебить всех иностранцев; но каков бы ни был конец, они опасались своеволия или ярости солдат.
В пять часов вечера услышали отдаленный гром пушек. Внимательно прислушивались, скоро по равномерным промежуткам времени между выстрелами различили, что это торжественные залпы, и, стало быть, дело окончено, – и с того времени напряжение всех спало.
Императрица ночевала в Петергофе, и на другой день поутру прежние ее фрейлины, которые оставили ее в ее бедствиях, молодые дамы, которые везде следовали за императором, придворные, которые в намерении управлять русским государством в продолжение многих лет питали ненависть к жене Петра, – все они явились к ней и пали к ее ногам.
Многие из них были родственники фрейлины Воронцовой. Видя их поверженными, княгиня Дашкова, сестра ее, также бросилась на колени[101], говоря: «Государыня! Вот мое семейство, которым я вам пожертвовала». Императрица приняла их всех с пленительным снисхождением и при них же пожаловала княгине ленту и драгоценные уборы сестры ее. Миних находился в той же толпе, и императрица спросила его: «Так вы хотели против меня сражаться?» «Да, государыня, – отвечал он, – а теперь мой долг сражаться за вас». Она оказала ему такое уважение и милость, что, дивясь дарованиям государыни, он передал ей в последующих разговорах все те знания о различных частях обширной Российской империи, которые приобрел он в продолжительный век свой в науках, на войне, за годы правления, а потом ссылки, – потому ли, что был тронут таким великодушным и неожиданным приемом, или, как полагали, потому, что это было последнее усилие его честолюбия.
В тот же день она торжественно возвратилась в город. Императрица была очевидно разгорячена событиями последних дней, встревоженная кровь вызвала небольшие покраснения на ее теле, и она провела несколько дней в постели.
Новый двор ее представлял зрелище, достойное внимания: в нем придворные старались, уже по своей хитрости, взять преимущество над ревностными заговорщиками, гордящимися оказанною услугою, и поскольку щедроты государыни не определили никому надлежащего места, то всякий хотел показаться тем, чем непременно хотел сделаться. В сии-то первые дни княгиня Дашкова, войдя к императрице, по особенной с ней близости, к удивлению своему, увидела Орлова на длинных креслах и с обнаженною ногою, которую императрица сама перевязывала, ибо он получил в эту ногу контузию.
Княгиня сделала замечание на столь излишнюю милость и скоро, узнав всё подробнее, приняла тон строгого наблюдения. Ее планы вольности, ее усердие участвовать в делах (что известно стало в чужих краях, где повсюду ей приписывали честь заговора, между тем как Екатерина хотела оставить эту честь себе и, может быть, успела уже себя в этом уверить); наконец, всё не нравилось, и немилость к ней быстро обнаружилась в дни блистательной славы, которую воздали ей из приличия.
Орлов скоро обратил на себя всеобщее внимание.