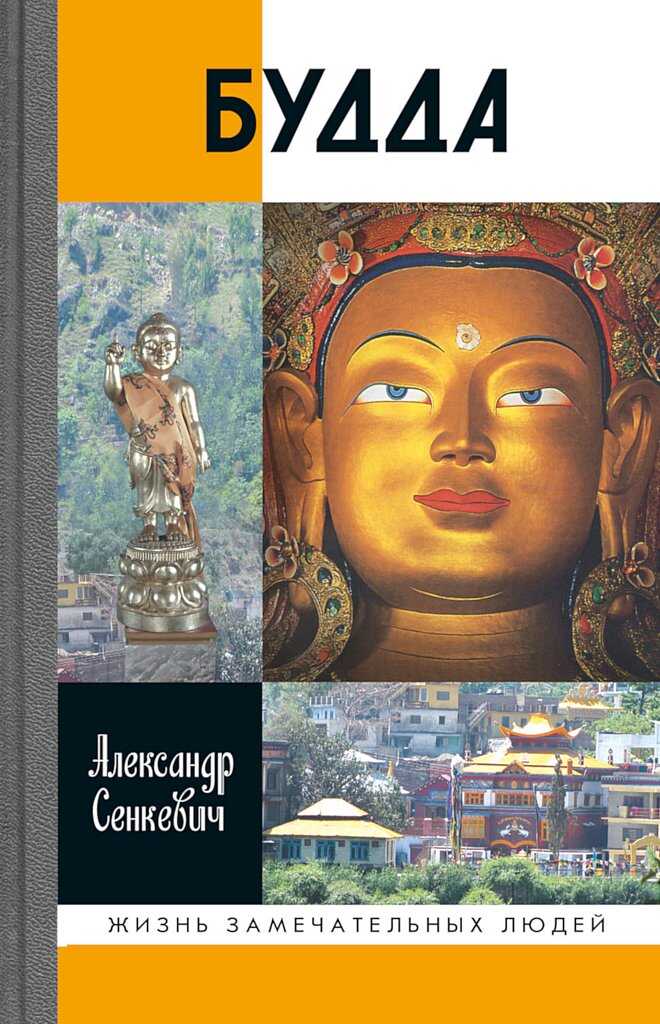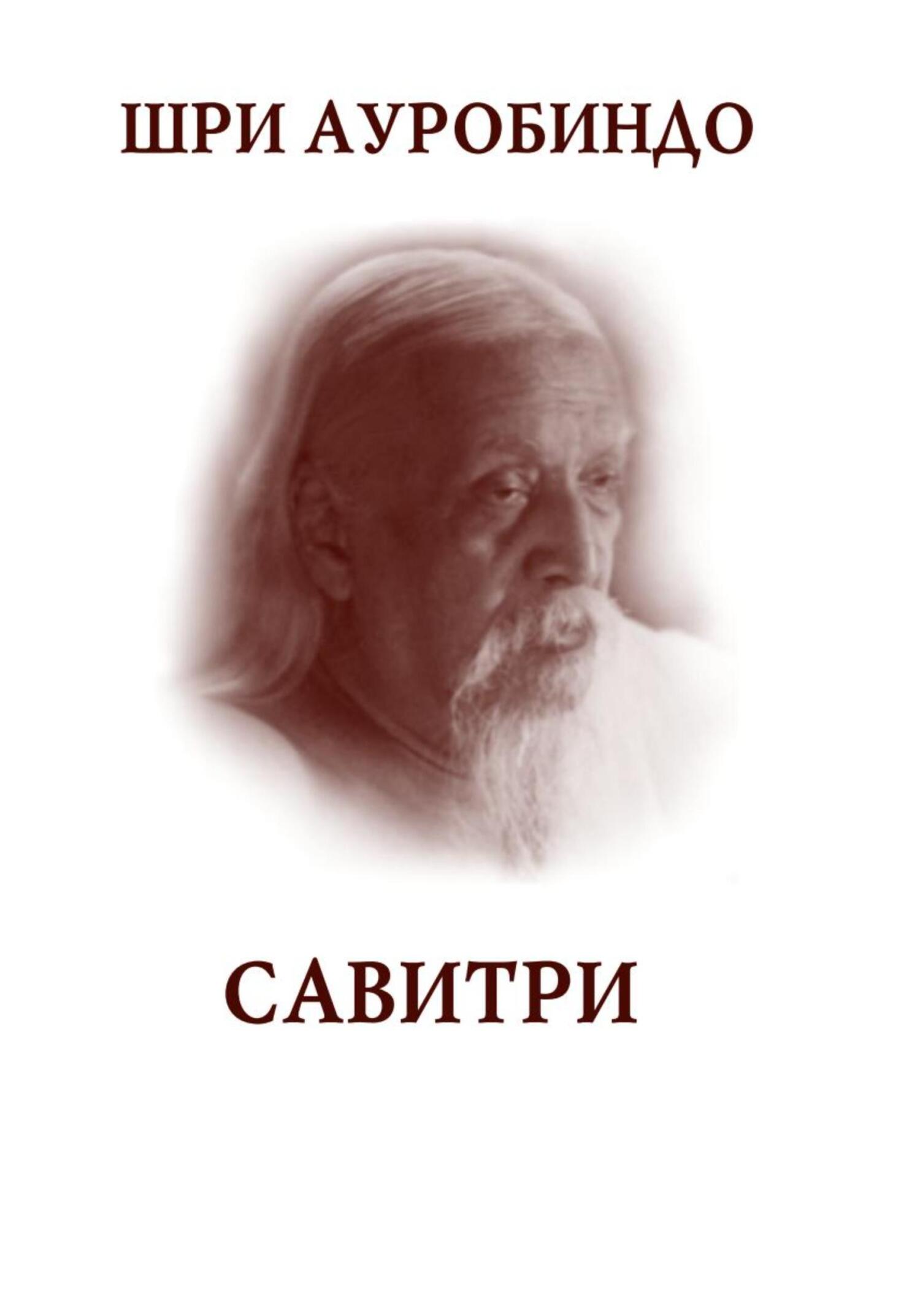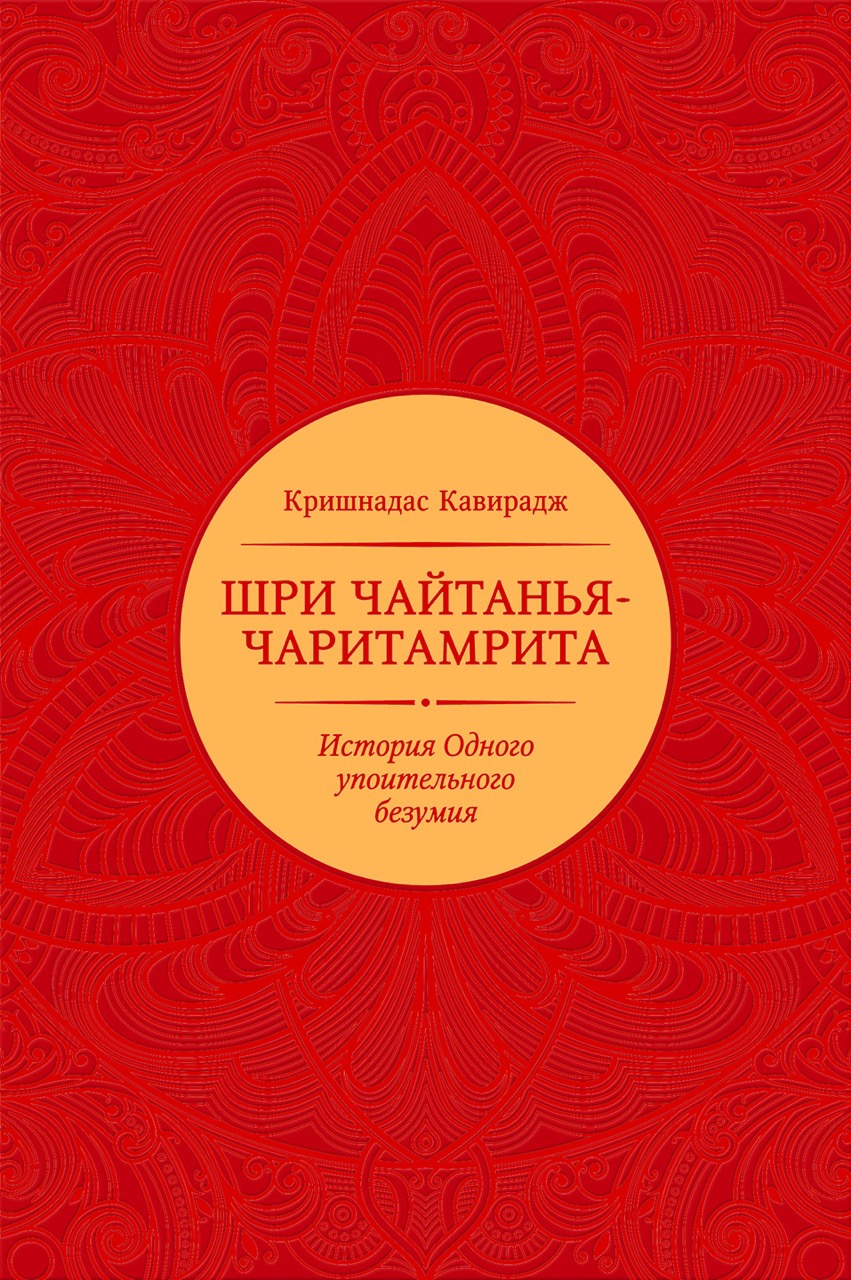Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Существует огромное количество сочинений о Будде и буддизме. Перед читателями биография «исторического» Будды Шакьямуни. Автор книги известный индолог и писатель положил в основу своего повествования буддийские источники и труды зарубежных и российских востоковедов. Это издание — результат многочисленных поездок ученого и писателя в страны буддийской культуры и будет интересно всем, кто хочет узнать не только биографию «исторического» Будды, но мечтал бы расширить свои представления о культуре, эпосе и верованиях Индии.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Николаевич Сенкевич»: