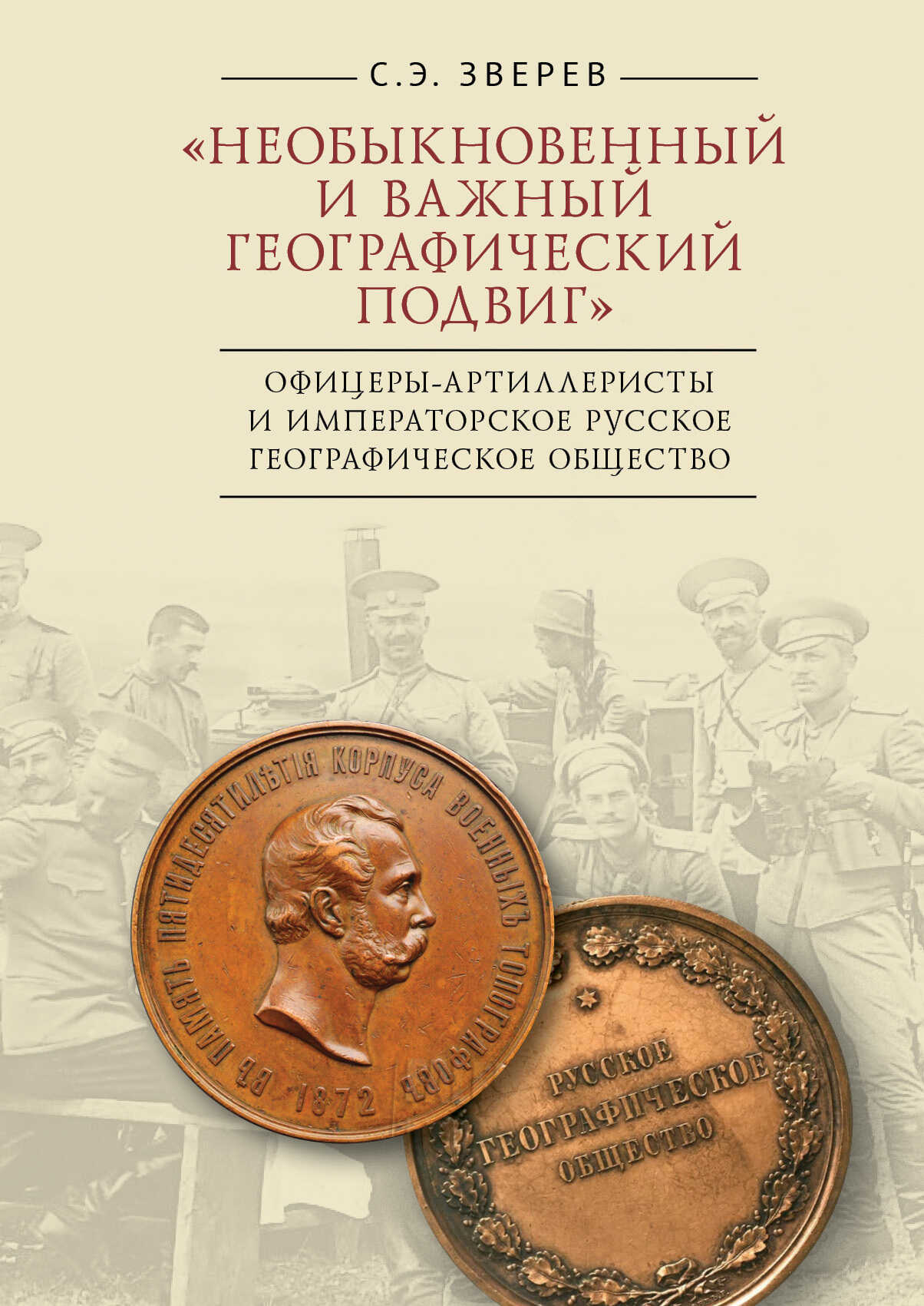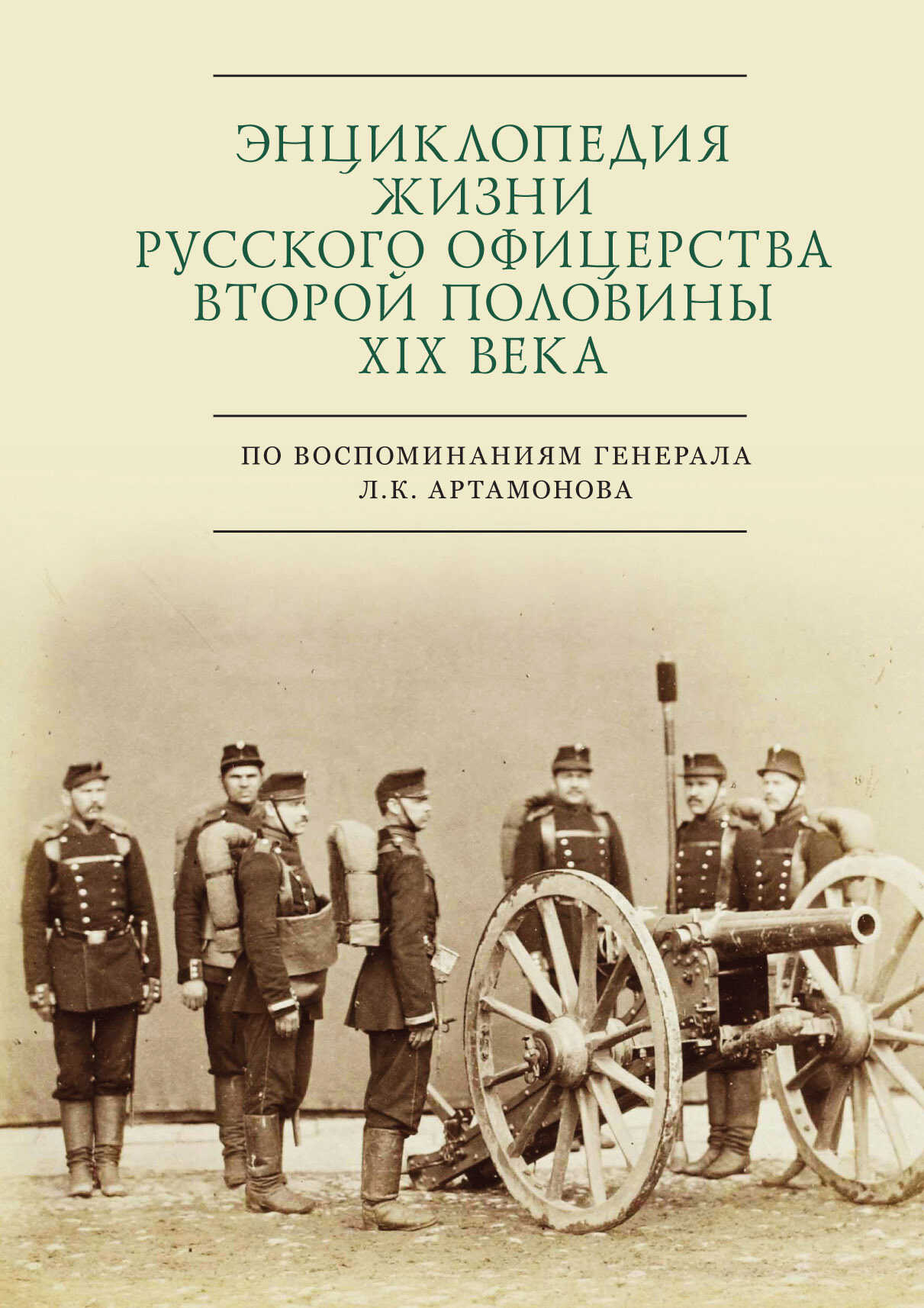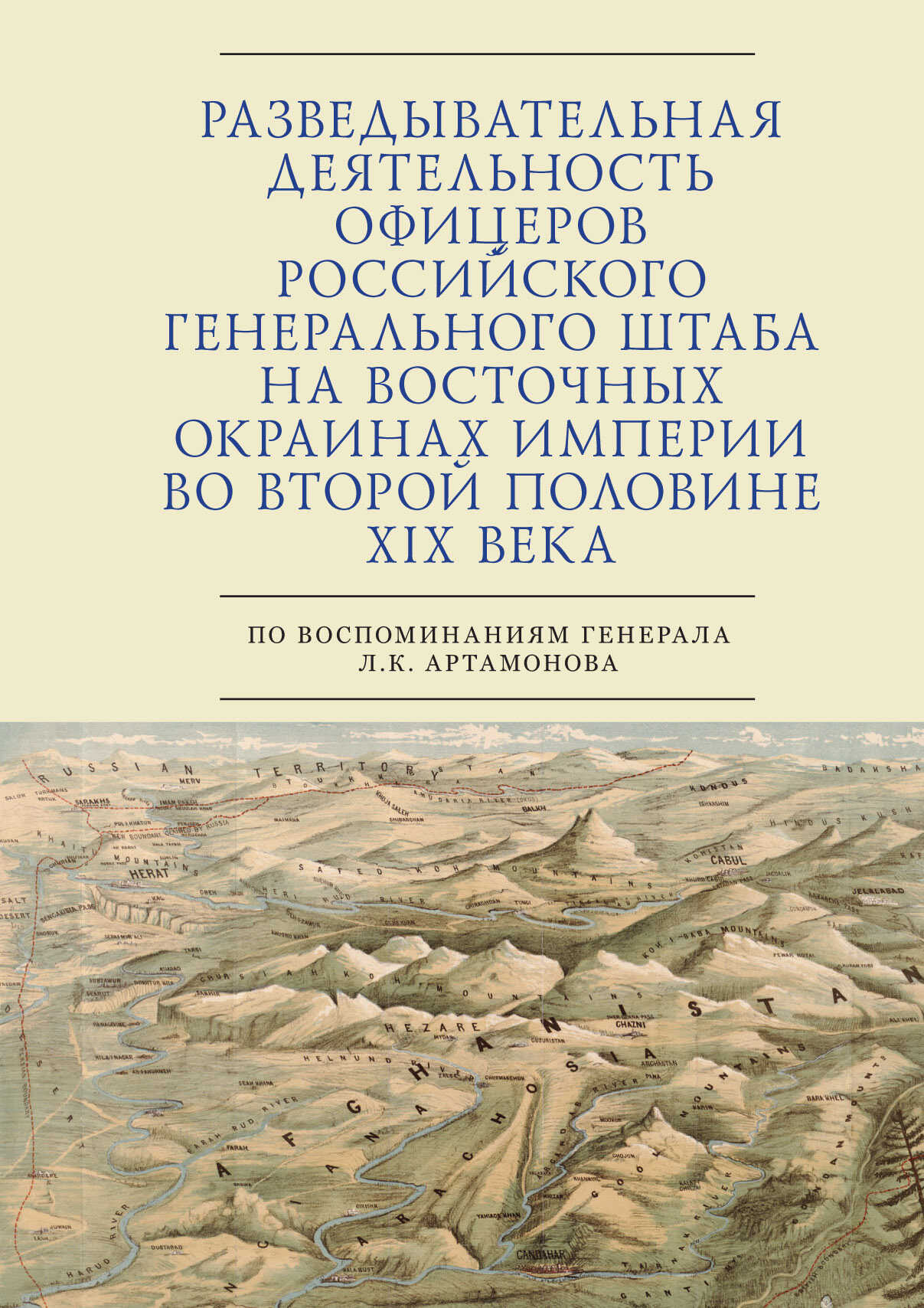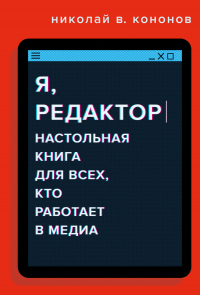Шрифт:
Закладка:
Книга основана на материалах воспоминаний генерала от инфантерии Леонида Константиновича Артамонова (1859—1932) – человека, прожившего интересную жизнь, которая пришлась на один из переломных в истории России периодов.Глазами очевидца и участника событий вы увидите все, что происходило в российском обществе и армии на протяжении почти трех десятилетий – в 1870—188о-гг.В книге нашли отражение характерные особенности служебно-боевой, походной и повседневной жизни российской армии: как была организована учеба в военных гимназиях, военных училищах и академиях, какими ценностями и интересами жило строевое армейское офицерство второй половины XIX в.Книга предназначена для тех, кто интересуется военной историей, военной педагогикой и психологией, для политологов, социологов и педагогов, а также для всех интеллигентных людей, размышляющих о судьбах России.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.