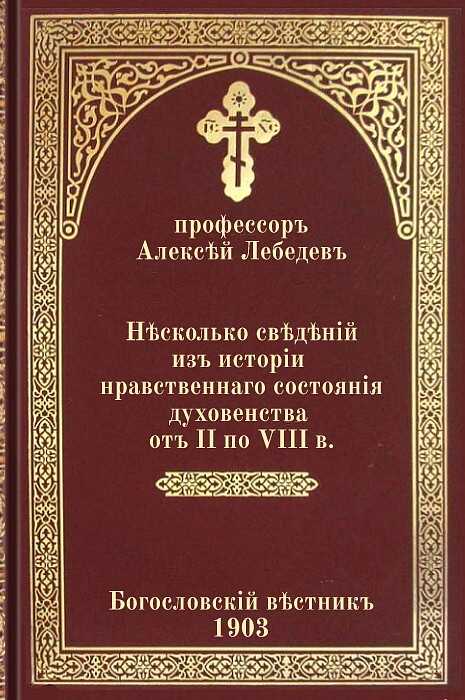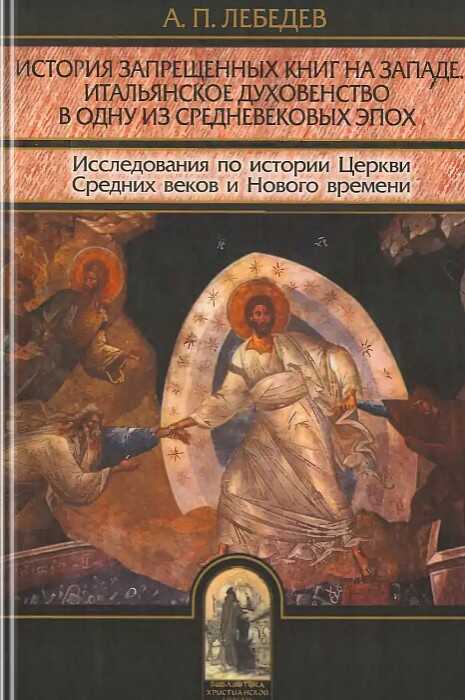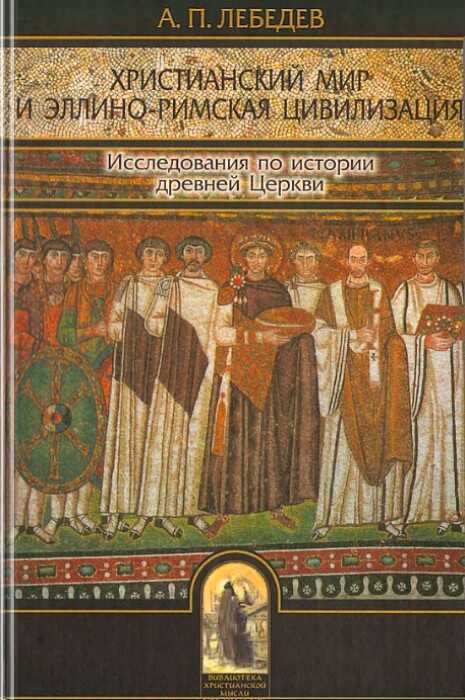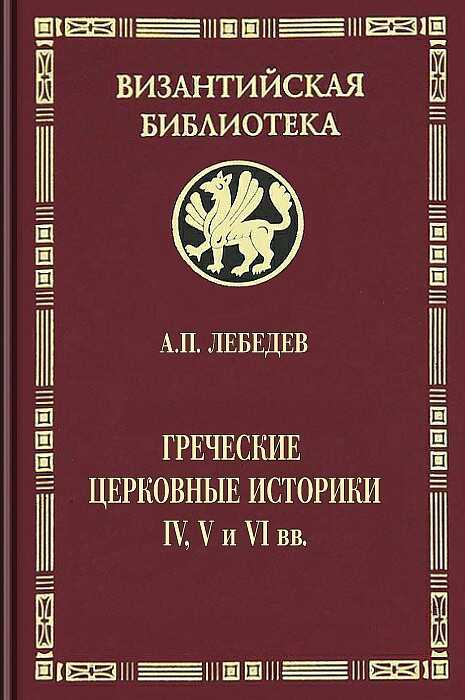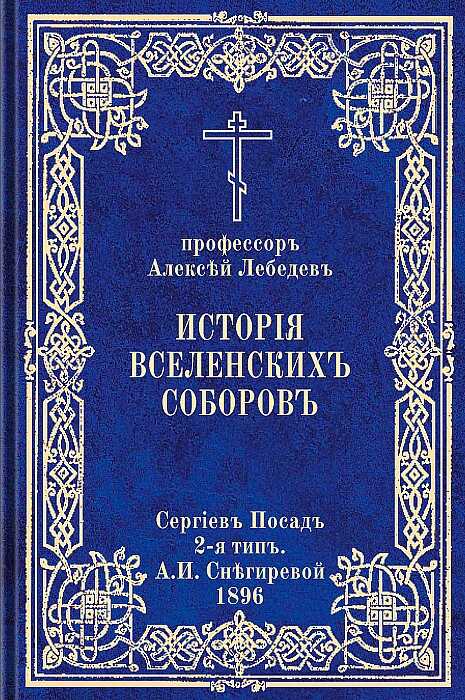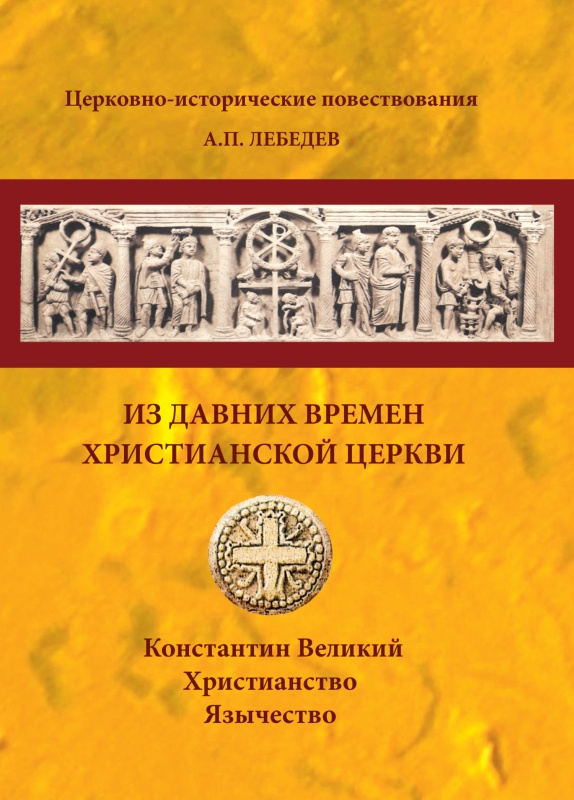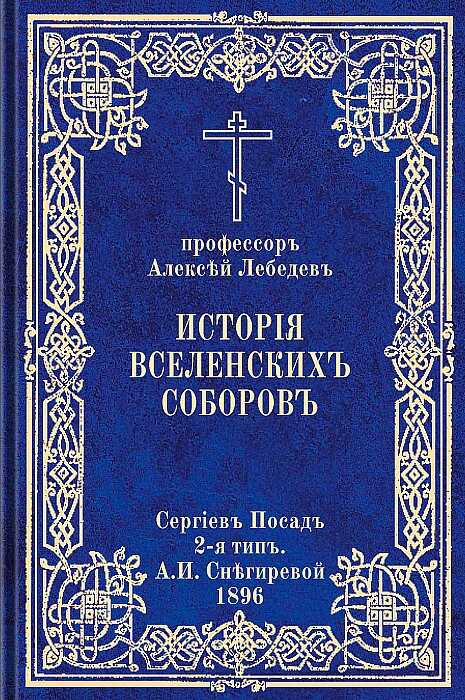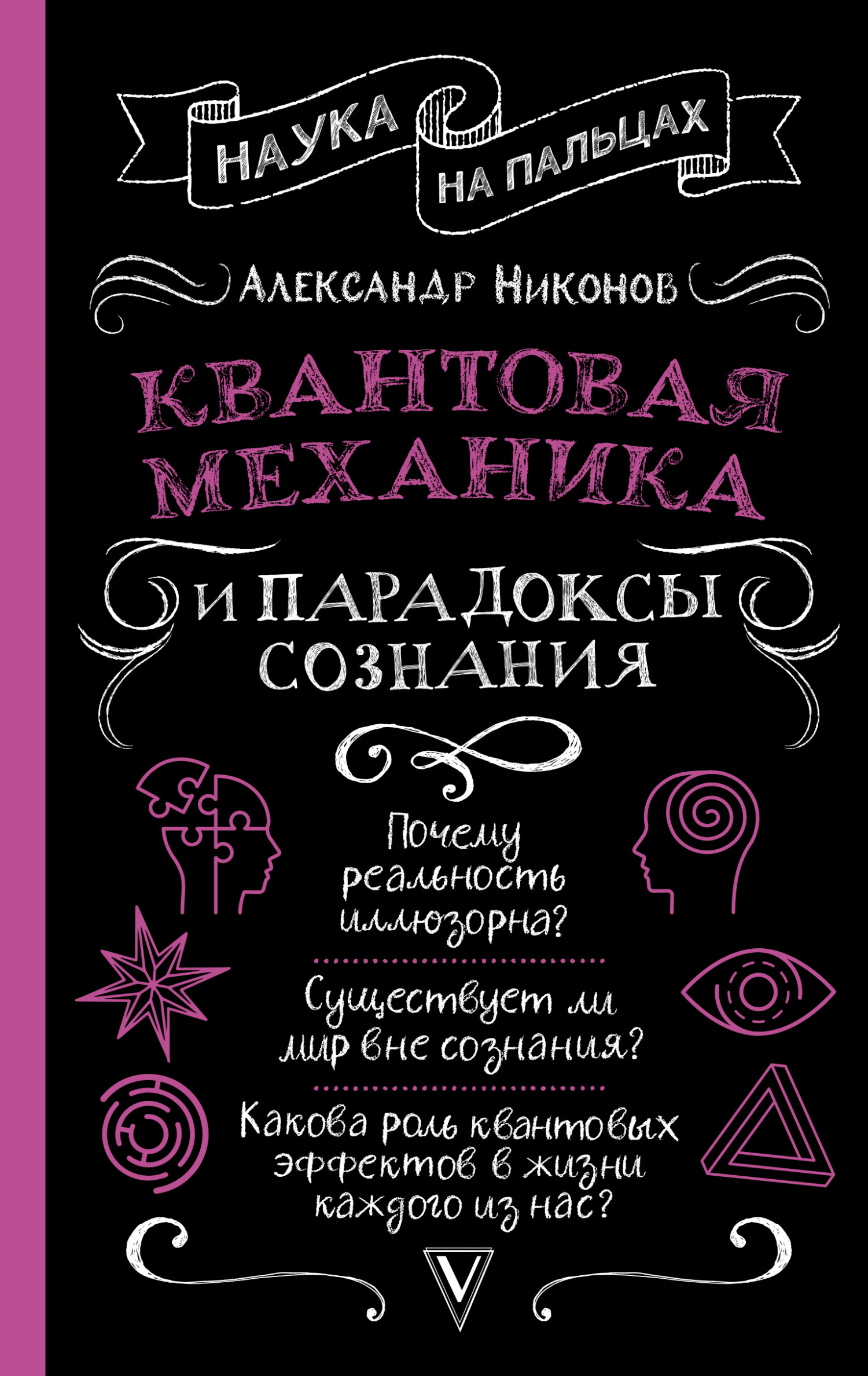Шрифт:
Закладка:
В очередной том церковно-исторических сочинений выдающегося русского историка Церкви, профессора Московской Духовной академии, заслуженного профессора Московского университета Алексея Петровича Лебедева (1845–1908) вошли работы разных лет, связанные единством темы — исследования по истории древней Церкви. Написанные легко и доступно, хорошим русским языком, сочинения А. П. Лебедева неизменно вызывали и до сих пор вызывают к себе повышенное внимание как специалистов, так и любителей церковной истории. Апокрифическая переписка ап. Павла с Сенекой, сочинение одного из самых грозных противников христианства Цельса «Книга истины», состав евхаристических даров древнейшей Церкви, Несторий и Евтихий, обзоры иностранной церковно-исторической литературы — вот далеко не полный перечень статей, вошедших в данный том. Электронная версия текста представлена на сайте azbyka.ru.