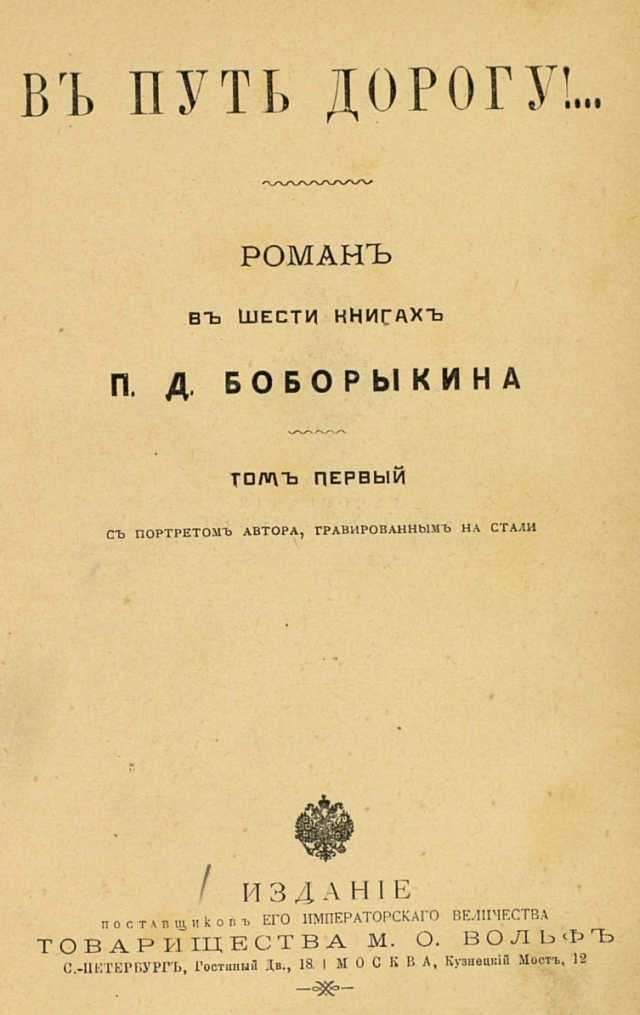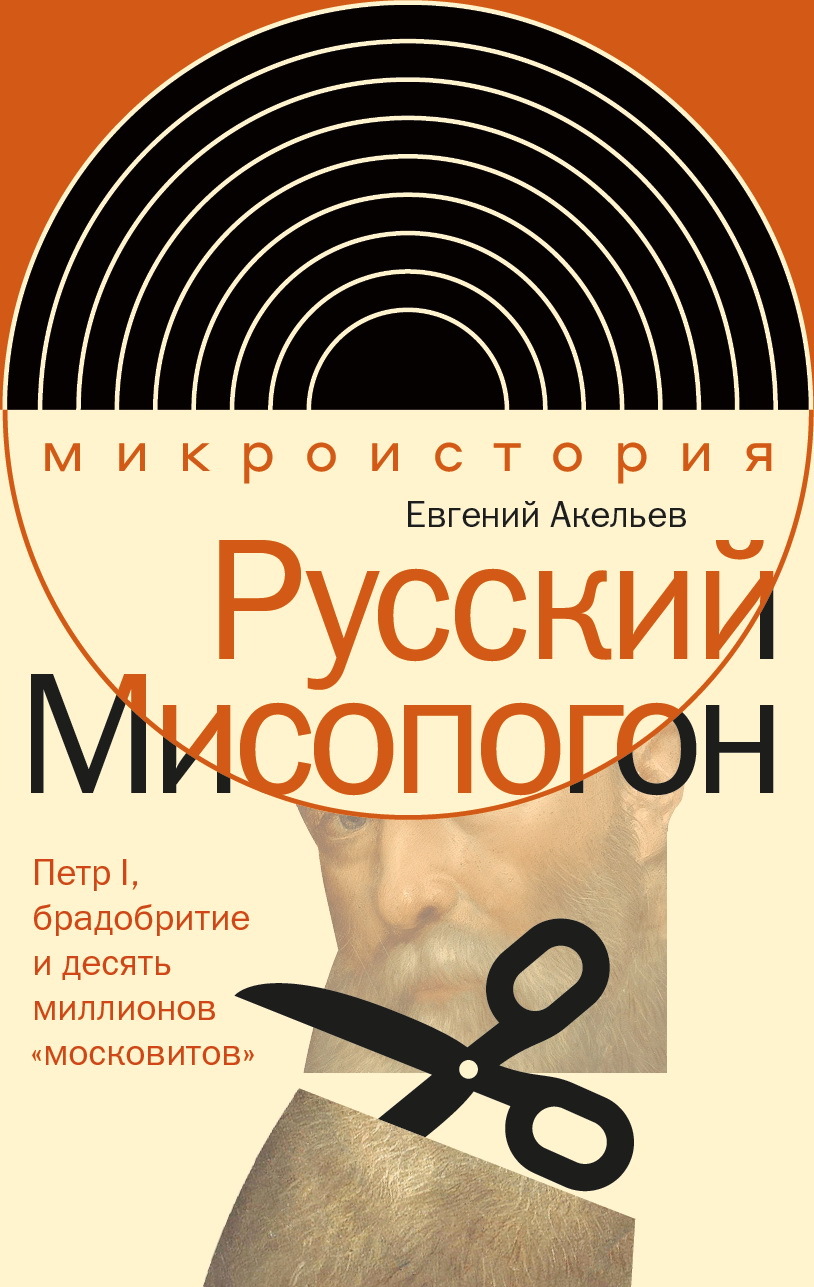Шрифт:
Закладка:
Они разсказывали все ту-же повѣсть, обыденную, длинную, несвязную, ту самую, что и вы, и я, и десятки людей заучиваемъ нехотя и повторяемъ поневолѣ.
Въ передней ничто не измѣнилось съ незапамятныхъ временъ. Масляная краска изображала тотъ же мраморъ; лари были тѣ же, какъ ихъ сколотили во дни постройки дикаго дома; висѣло въ простѣнкѣ то же сумрачное зеркальце, стоялъ все тотъ же красный столъ съ безчисленными нарѣзками — плодомъ досуговъ многочисленной лакейской братіи. Въ этой передней десятки лѣтъ не умирали громкіе разговоры и звучное общее храпѣніе. Сколько разъ Борисъ, послѣ вечернихъ уроковъ, когда во всемъ домѣ наступала мертвая тимина, слушалъ изъ залы гулъ и храпъ лакейской, съ желаніемъ прервать его и спросить себѣ у буфетчика стаканъ квасу и ломотъ чернаго хлѣба — свое любимое кушанье. И мальчикъ удерживался. Онъ зналъ, что буфетчикъ съ хмурымъ и кислымъ видомъ посмотрbтъ на барченка и отвѣтитъ: «сейчасъ» такимъ тономъ, что не въ охоту будетъ приниматься за свой любимый квасъ и черный хлѣбъ.
Были въ этой передней свои законы, нравы и привычки.
Поутру всѣ сидѣли съ ногами на ларяхъ, спала одна треть. Дворецкій Родивонъ читалъ у окна псалтырь; обучившіеся портному и сапожному ремеслу открывали свои мастерскія, не стѣсняясь пріѣздомъ гостей. Любители предавались игрѣ въ мамки и куренію самкроше и лучшаго вакштафа. Послѣ обѣда спали двѣ трети, остальные расходились — кто въ музыкантскую, кто въ кухню; оставался какой-нибудь мечтатель и, прислонясь къ горячей печкѣ, грѣлъ свои ладони и мурлыкалъ что-нибудь подъ носъ. Вечеромъ бесѣда оживлялась, являлись музыкальные инструменты, гармоніи, бандуры, мордовскія гусли, рассказывались анекдоты, и потомъ вдругъ все смолкало. Всѣ три трети погружались въ истинно-лакейскій сонъ. На столѣ нагарала девятериковая свѣча — монастырка, какъ называли ее остряки передней, — и красный свѣтъ ея утопалъ въ густомъ, спертомъ воздухѣ.
«Зачѣмъ столько дворни? — спрашивалъ себя не разъ барченокъ. — Откуда въ ней это тупое недовольство, почему неловко проходить черезъ эту переднюю?…»
Когда ему случалось провожать своего нѣмецкаго учителя или учителя музыки, онъ видѣлъ, что никто изъ служителей не поднимался съ мѣста, никто и не думалъ подать нѣмцу скромную шинель.
И что-то досадное рождалось на сердцѣ мальчика.
А передняя продолжала жить своего жизнью, и весь домъ состоялъ при ней, былъ безъ нея немыслимъ: но она не отнимала у залы ея обстановки, ея жизни и воспоминаній.
Большая желтая зала смотрѣла угрюмо. Въ задней стѣнѣ были хоры. Они казались, въ сумеркахъ, бездонной пропастью.
Сухо и жестко глядѣли эти желтые стулья и ломберные столы, разставленные въ застывшей симетріи. И цвѣты на окнахъ, и растенія въ горшкахъ — все было тускло и ненарядно. Смѣшно даже было смотрѣть на эту зелень.
«Зачѣмъ она тутъ? Неужели для украшенія?» спрашивалъ себя мальчикъ, ходя взадъ и впередъ по залѣ въ долгіе и зимніе вечера: «Неужели въ этой залѣ бывало весело?»
А мы знаемъ, что тутъ гремѣла когда-то доморощенная музыка, на стѣнахъ горѣли, въ жестяныхъ бра, сальныя свѣчи, и, подъ мазурку Хлопицкаго, бренчали шпоры и разсѣкался воздухъ скачущими парами.
Буфетчикъ Алешка, пресытившись звуками, предавался сладкому сну и обнималъ контрбаса, а мазурка шла себѣ безъ басовыхъ иотъ.
Да то-лн еще бывало!… Оркестръ въ полномъ сборѣ. Собираются играть концертъ, какъ говорятъ старые дворовые музыканты. Начали. Затрубили валторны, заработали скрипки, флейта, какъ водится, зафальшивила, все идетъ прекрасно.
Вдругъ капельмейстеръ, Карпъ Ѳедорычъ, останавливаетъ разыгравшійся хоръ и обращается съ удивленнымъ, но кроткимъ видомъ къ дворецкому, играющему съ большою важностью на кларнетѣ.
— Родивонъ Иванычъ, вѣдь вы что-то не то играете, — говоритъ Карпъ Ѳедорычъ, указывая съ нѣкоторой нерѣшительностью на ноты, лежащія предъ Родивономъ Иванычемъ.
— Нѣтъ-съ, я то играю, — отвѣчаетъ дворецкій съ глубокимъ сознаніемъ своего музыкальнаго достоинства.
— Да вы что же играете-съ? — позволяетъ, себѣ спросить Карпъ Ѳедорычъ.
— Я изъ «Калифа Багдадскаго».
— А вѣдь мы изъ «Двухъ слѣпцовъ»!
Валторнистъ Ѳедька фыркаетъ, по необузданности своего характера, Родивонъ Иванычъ сердится и объявляетъ, что у него и нотъ нѣтъ изъ «Двухъ слѣпцовъ». Играютъ «Калифа Багдадскаго».
Все это было; по оно не оставило залѣ ничего кромѣ пустоты, пыли и мертвой тишины. И только старое, добродушное фортепіано съ отдѣлкой изъ карельской березы, сокращало долгіе часы, тянувшіеся въ этой желтой, безполезной комнатѣ. Къ нему присаживался мальчикъ, бралъ тихіе аккорды, и, не зная нотъ, наигрывалъ какія-то мелодіи, неизвѣстно когда и гдѣ имъ подслушанный.
Два раза желтая зала освѣщалась погребальнымъ свѣтомъ восковыхъ свѣчъ.
Посреди ея стоялъ столъ, на столѣ гробъ, и дѣдушка, въ павловскомъ мундирѣ, выглядывалъ изъ него и точно улыбался. Маленькому Борѣ не страшно было смотрѣть на покойника. Онъ видѣлъ кругомъ тоскливыя, слезливо-сморщенныя лица дворовыхъ, старухъ и дѣвокъ, одѣтыхъ въ черныя коленкоровыя платья, съ бѣлыми платками на головахъ — и ему не хотѣлось плакать. Онъ съ любопытствомъ осматривалъ гробъ, и покровъ, и свѣчи, обвитыя флеромъ, и по нѣскольку разъ въ день подходилъ къ бархатной подушкѣ, на которой лежали очень красивые крестики… Въ залѣ было тогда такъ холодно, чѣмъ-то курили; въ форточки врывался рѣзкій мартовскій воздухъ; дверь въ переднюю безпрестанно отворялась, и къ гробу подходили разные гости, молодыя барыни, старушки, всякіе господа, толстые и худые. Одни, перекрестившись и сдѣлавъ земной поклонъ, прикладывались къ дѣдушкѣ и, постоявъ нѣсколько минутъ, уходили; другіе заговаривали съ прислугой и оставались по-получасу.
Близкіе знакомые отправлялись въ диванную, къ бабушкѣ. Она не показывалась въ залу, и мальчику было очень весело и покойно.
Въ залѣ красиво горѣли высокія свѣчи; темные углы рѣзко отдѣлялись отъ средины комнаты, гдѣ гробъ подымался высоко надъ головой Бори, и онъ все смотрѣлъ на отблески парчи, прислушивался къ треску свѣтиленъ и къ глухому чтенію дьячка.
Потомъ, въ третій день, въ залу набралось много народу; зажгли много свѣчей, и желтыхъ — и зеленыхъ; вокругъ гроба стали священники, закадили и запѣли… Зала оживилась, точно она справляла свой послѣдній пиръ.
Это было, въ самомъ дѣлѣ, послѣднее многолюдное собраніе.
Но еще разъ горѣли въ ней восковыя свѣчи, еще разъ стоялъ гробъ, и врывался холодный воздухъ въ открытыя форточки. Въ гробу лежала мать Бориса. Въ залѣ не было такъ празднично, какъ на похоронахъ дѣдушки. Мальчикъ стоялъ въ углу, въ темномъ углу, и то принимался плакать, то смотрѣлъ неподвижно на бѣлую подушку, гдѣ покоилась голова покойницы. И въ залѣ была только его Мироновна и дьячокъ, читавши такъ же глухо, какъ и у гроба розоваго дѣдушки.
Мало собралось гостей на выносъ, не было и частнаго пристава, распоряжавшагося на похоронахъ дѣдушки.
И зала зажила