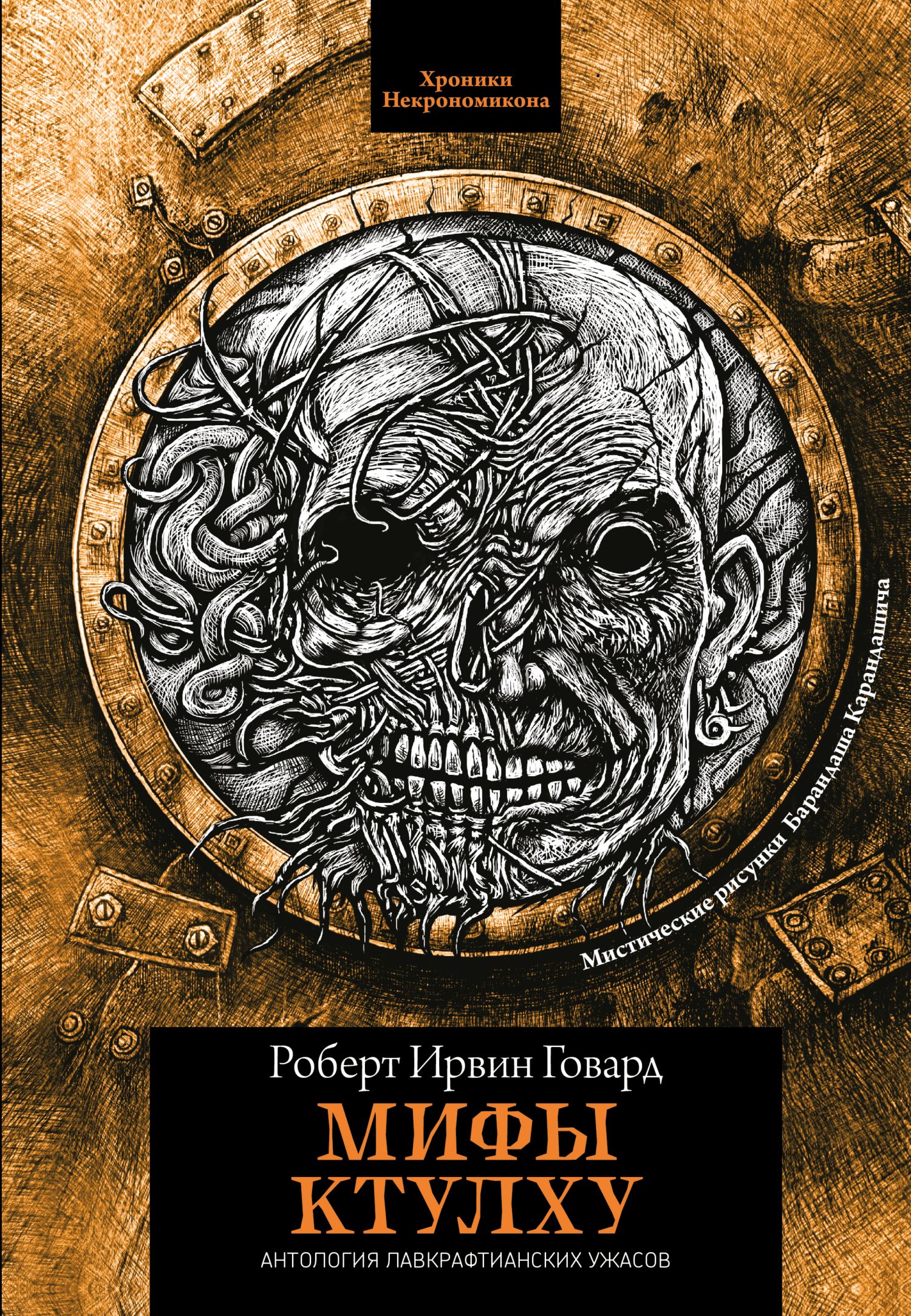Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Все девять сборников «Вселенной Г. Ф. Лавкрафта» в одном томе. Одно из наиболее полных собраний издательских и любительских переводов рассказов, объединенных общей темой — ГФЛ.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Джеймс Амбуэлл»:
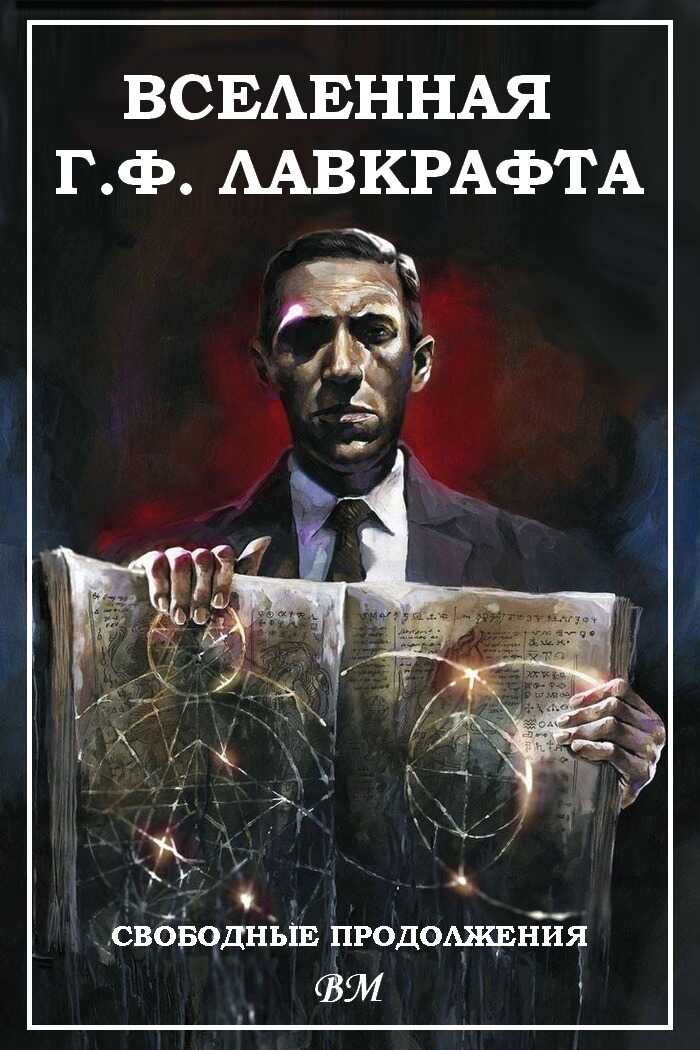

![Мифы Ктулху. Большая книга ужасов [Литрес] - Говард Лавкрафт](/uploads/posts/books/12361/12361.jpg)