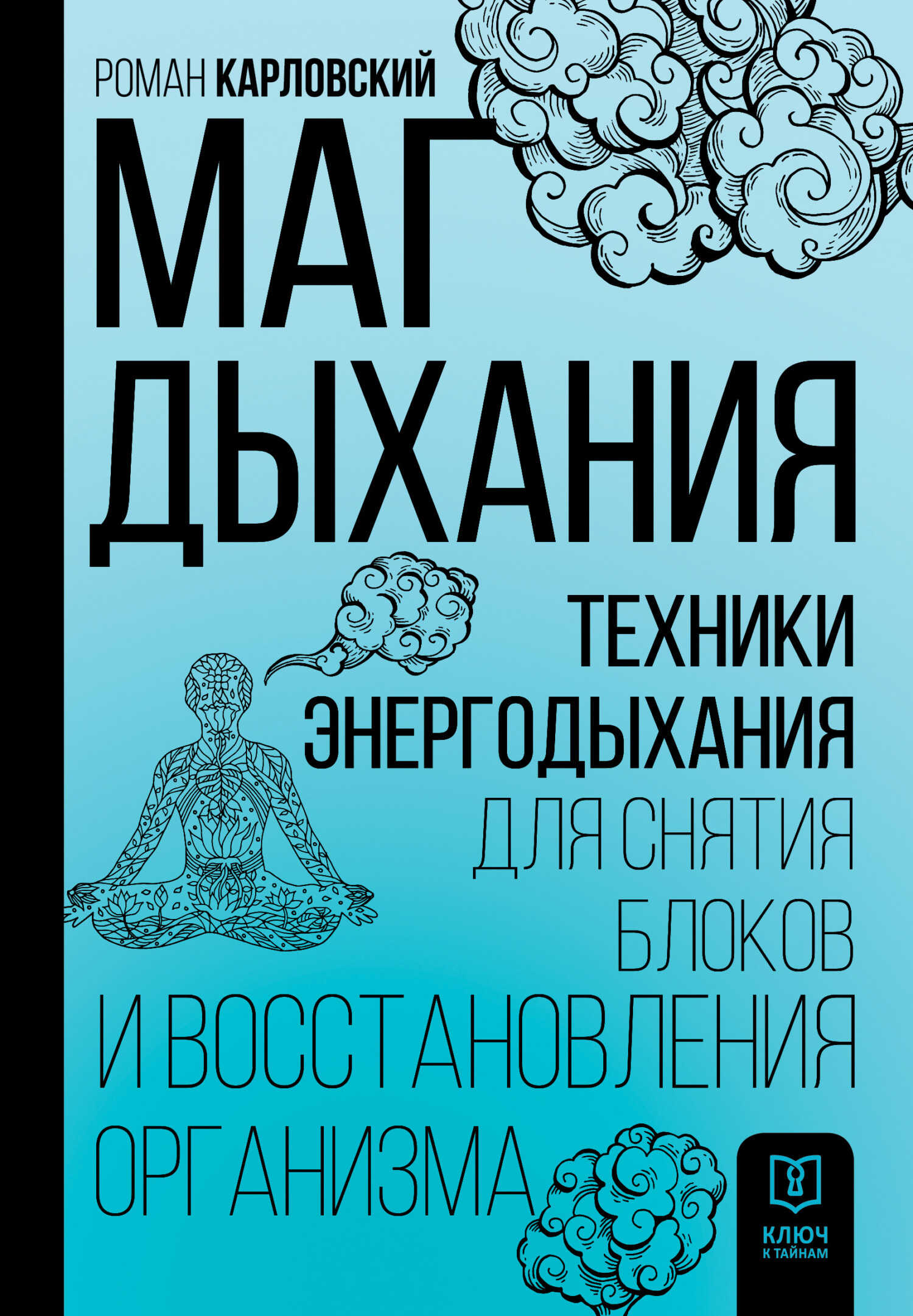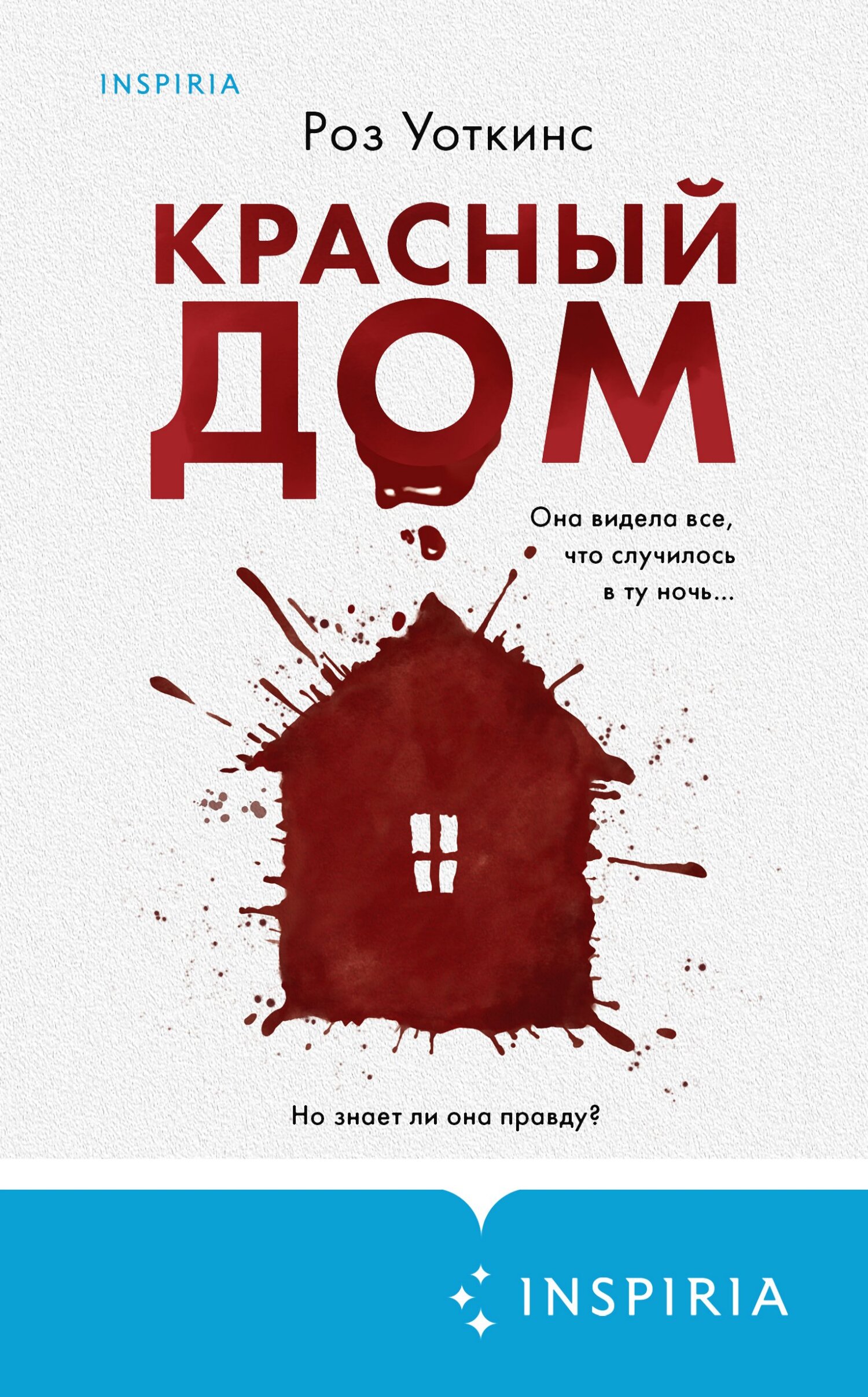Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Меня прозвали Аконит. Именно этот ядовитый цветок я оставляю как дар для тех, кто умер под лезвием моего ножа, и как послание тем, кто еще падет от моей руки. Вся столица Королевства шепчется, пробуя на вкус яд страха, а полиция ищет того, кто не оставляет улик, – меня.Корнелия Нортвуд жаждет знать обо мне все, раскрыть мою личность и подтвердить собственные догадки, чтобы сделать карьеру журналистки. Я – билет к исполнению ее желаний. И я хочу только ее, мою Рубиновую даму, мою богиню. Не могу отвести взгляд от Коры и желаю быть к ней как можно ближе. Эта потребность постоянна, а моя зависимость опасна…«Скажи, Кора, ты все еще любишь меня?»
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ирена Мадир»: