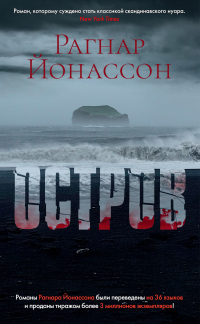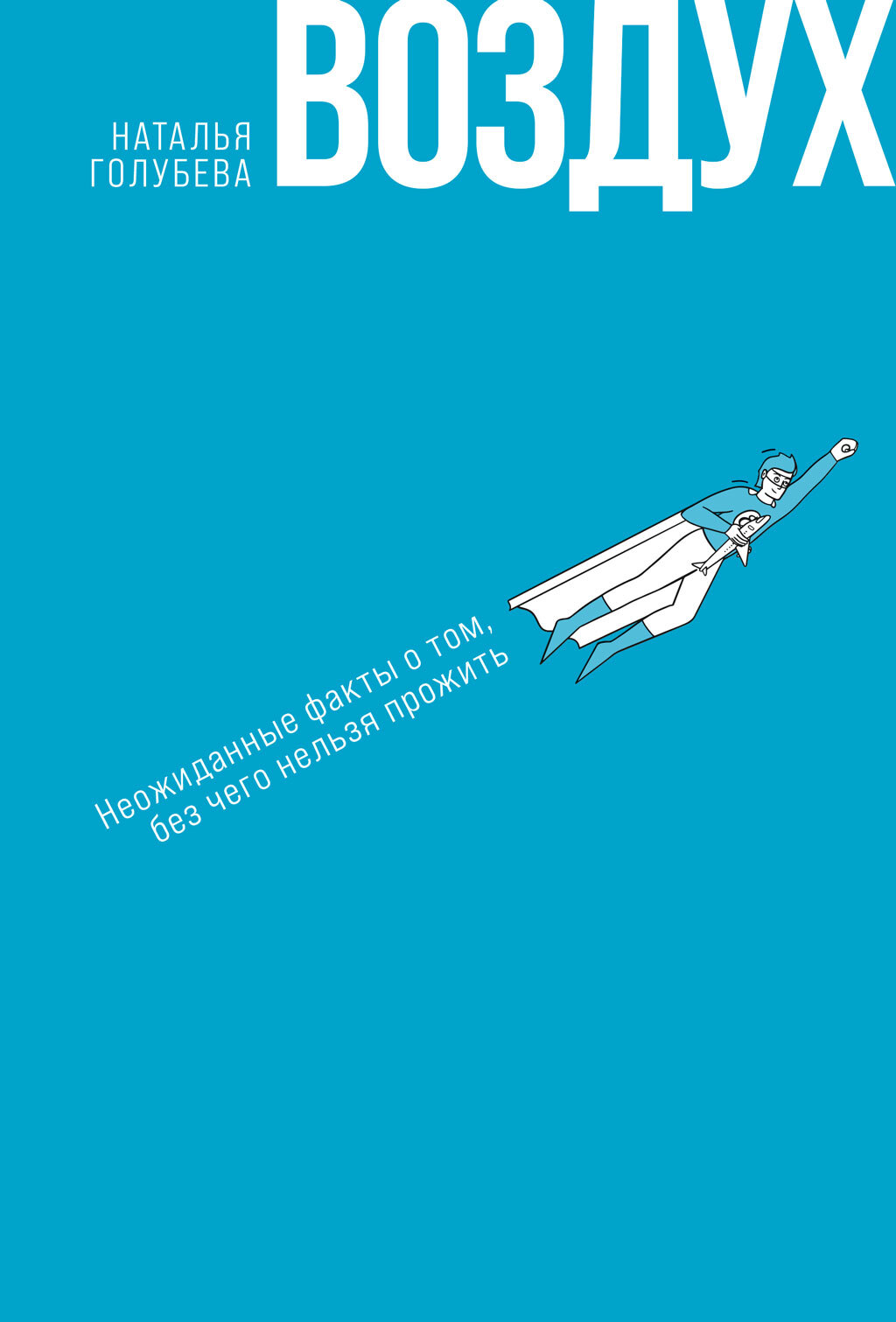Шрифт:
Закладка:
Патриотический, дышащий молодостью роман Виктора Николаевича Логинова «Дороги товарищей», в одночасье сделал молодого автора известным всей стране, «с южных гор до северных морей». Книга в увлекательной форме рассказывает о жизни и дружбе старшеклассников до войны и об их героической судьбе в период фашистской оккупации Роман имел необычайный успех во всей стране, и даже сейчас, спустя более полувека, его помнят и любят. Он вышел вскоре после войны, и многие читатели узнавали в его героях самих себя. В их памяти была жива довоенная юность… Конечно, молодые люди той поры отличались от нынешних. В наш прагматичный век героев Логинова назвали бы наивными романтиками, но они — это и мы тоже. Ведь поколения словно соединены между собой в единую неразрывную цепь: тронешь одно звено, а другое отзовется.