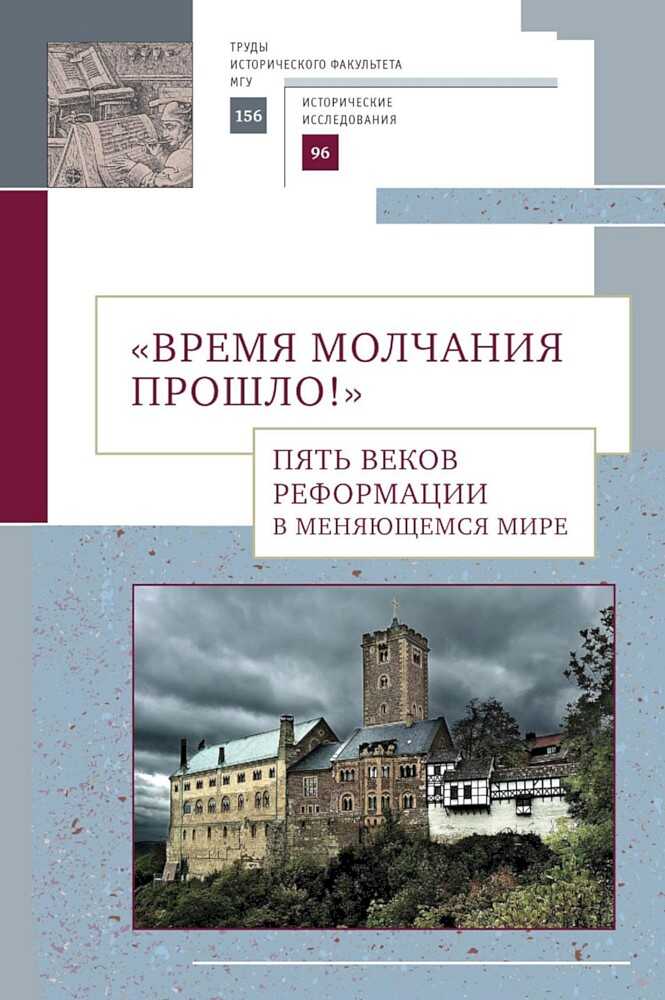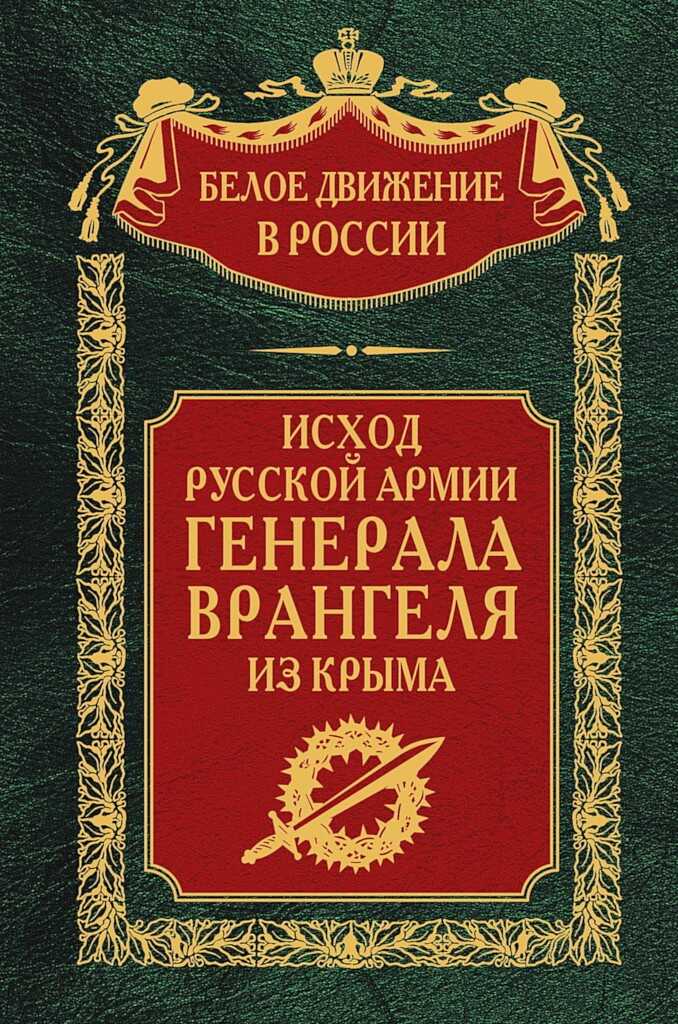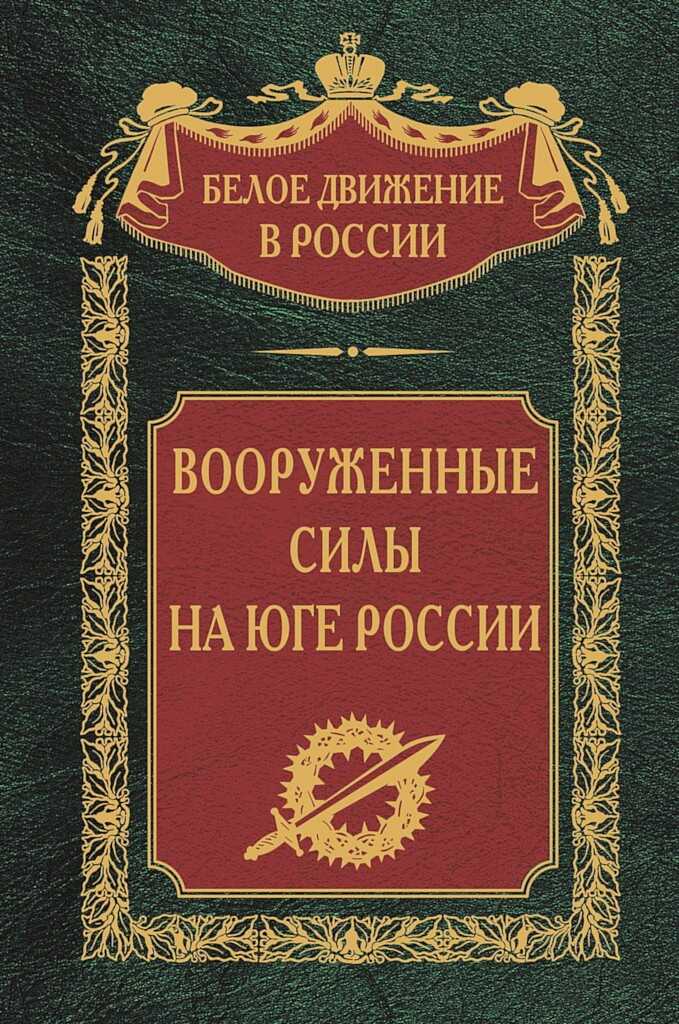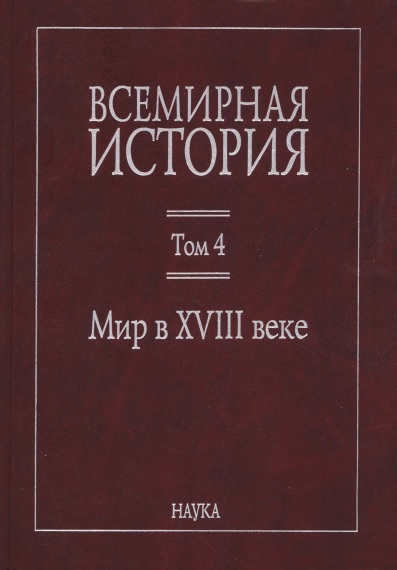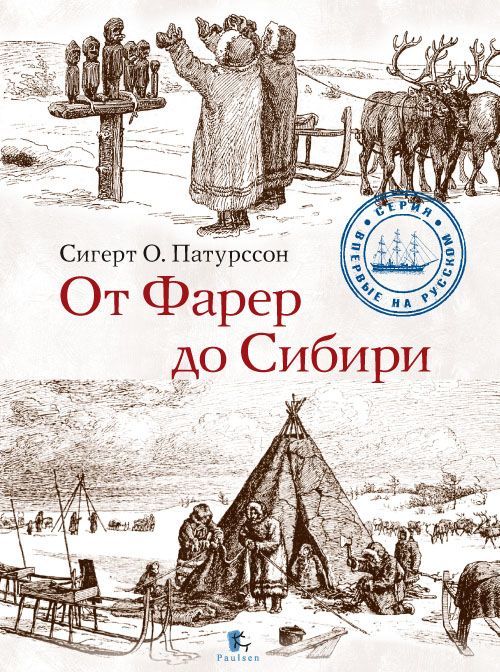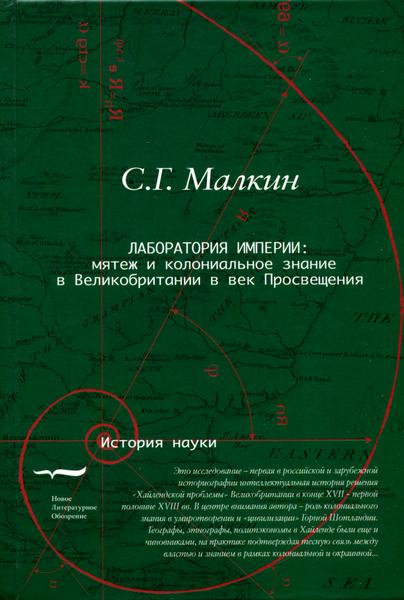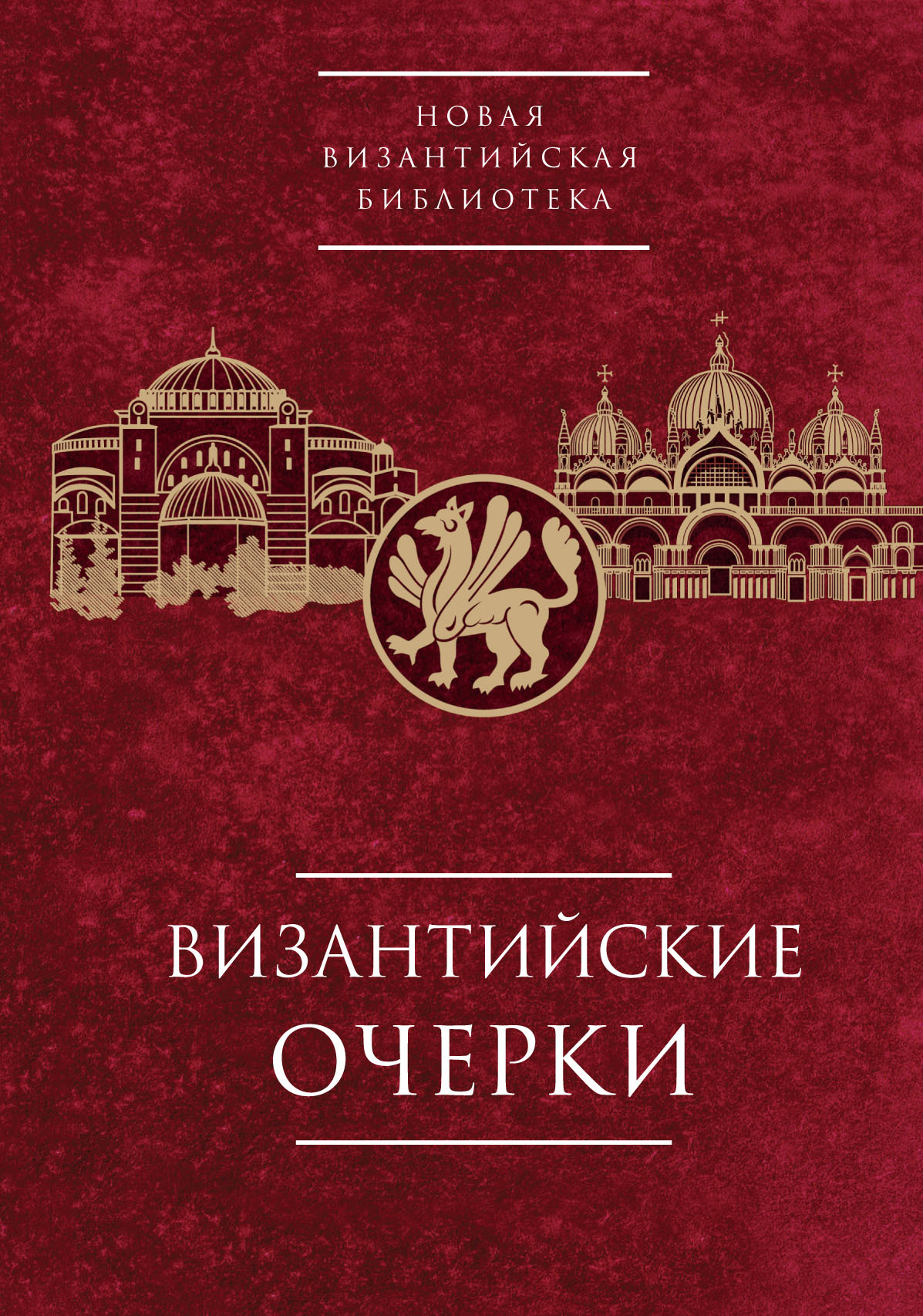Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборник вошли отрывки из воспоминаний и писем, публицистических произведений, в которых содержатся упоминания о польских ссыльных и их взаимоотношениях с местной администрацией и населением, а также фрагменты первых проводимых в России исследований польской ссылки и того влияния, которое оказывали ссыльные на население Сибири.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Коллектив авторов -- История»: