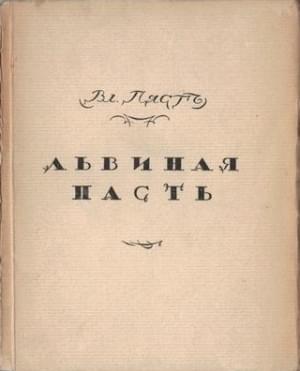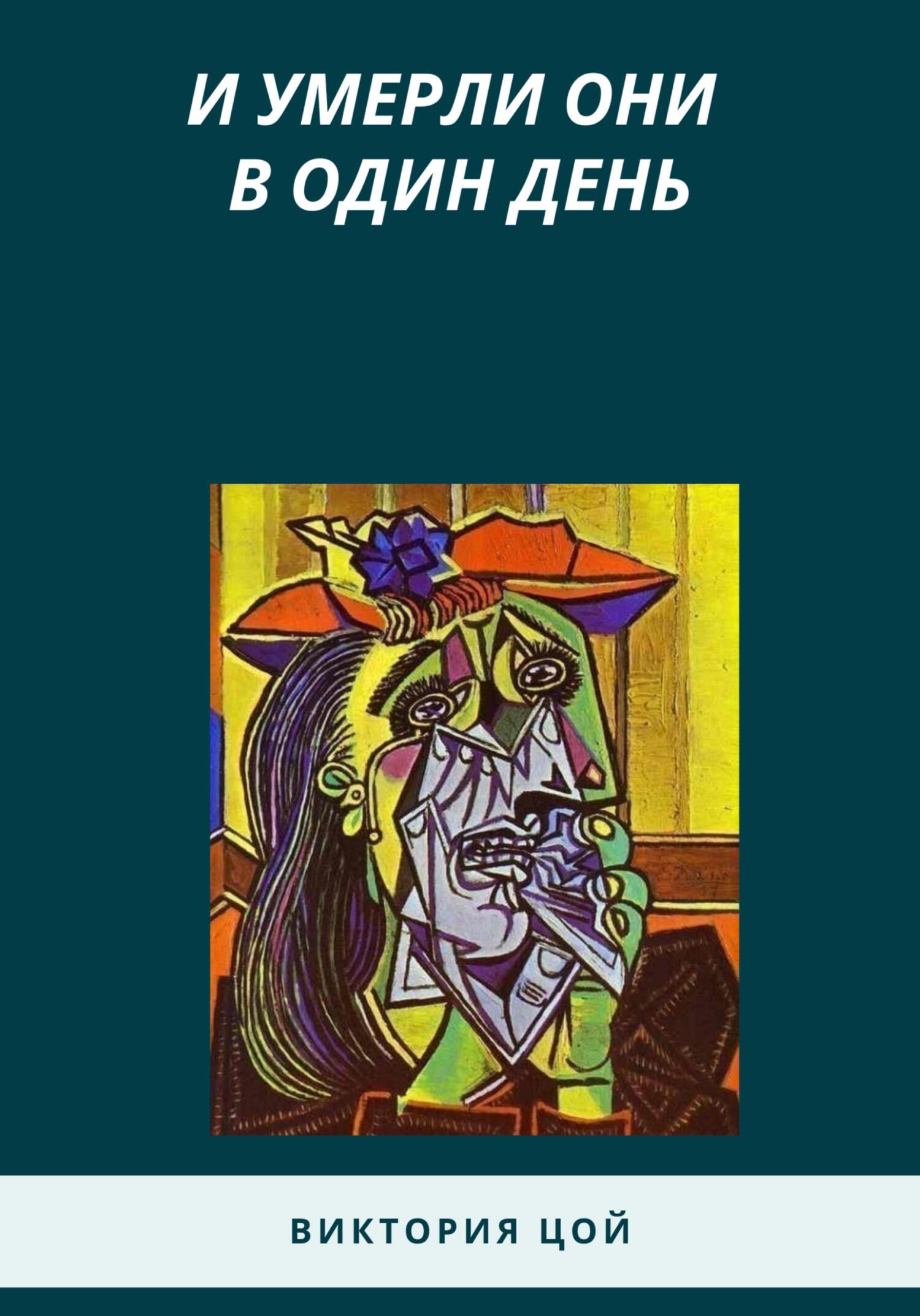Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман М. Шевердина «Перешагни бездну» разоблачает происки империалистических кругов Европы и Азии, белоэмигрантов, среди которых был эмир бухарский Сеид Алимхан, и иностранных разведок с участием английского разведчика Лоуренса Аравийского по подготовке интервенции против республик Средней Азии в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века.…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Иванович Шевердин»: