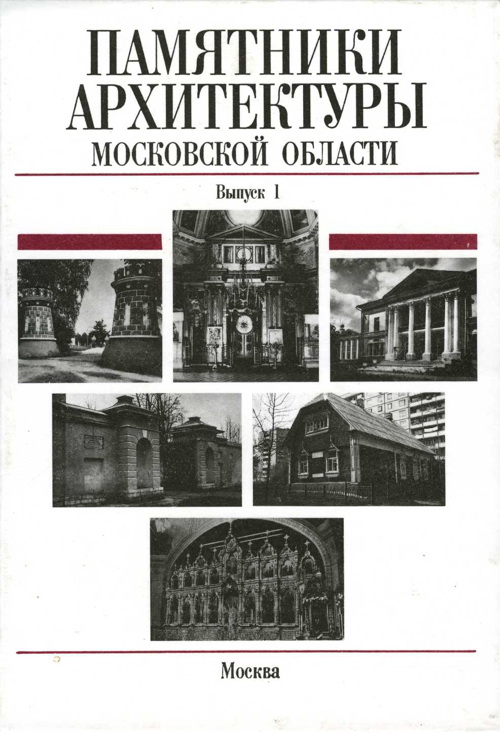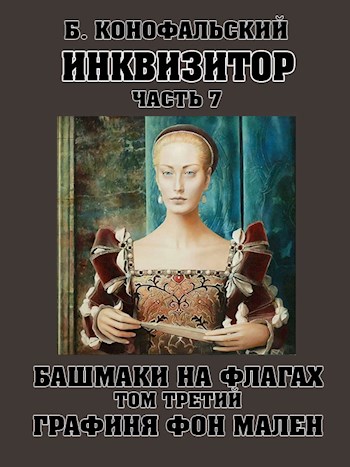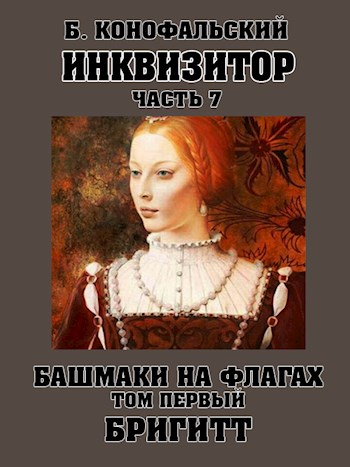Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Юная Селина Пик работает школьной учительницей в небольшом сельском поселении неподалеку от Чикаго. Она вдохновляет учеников следовать мечтам, какими бы недостижимыми они ни казались, но вынуждена пожертвовать собственными ради воспитания сына Дирка, которого с любовью называет «Большущий».Повзрослев, Дирк проявляет интерес к архитектуре, но, к сожалению матери, оставляет свое увлечение ради более прибыльной работы брокером. Однако когда Дирк встречает настоящую любовь, он начинает задаваться вопросами: правильный ли выбор он сделал и что на самом деле имеет значение в жизни?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эдна Фербер»: