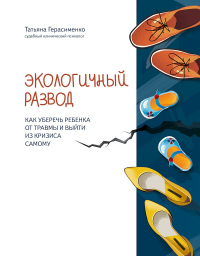Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Макар — «цирковой ребенок» из известной династии воздушных гимнастов. Он с детства привык к кочевой жизни и постоянным переездам, поэтому ни к чему и ни к кому надолго не привязывается. Динка — простая девчонка из маленького городка, о которой ходит множество грязных слухов. Именно она сведет Макара с ума и станет его болезненным наваждением… тем, за которое ему придется заплатить очень высокую цену. *** Обложка от Натальи Кульбенок.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юлия Владимировна Монакова»: