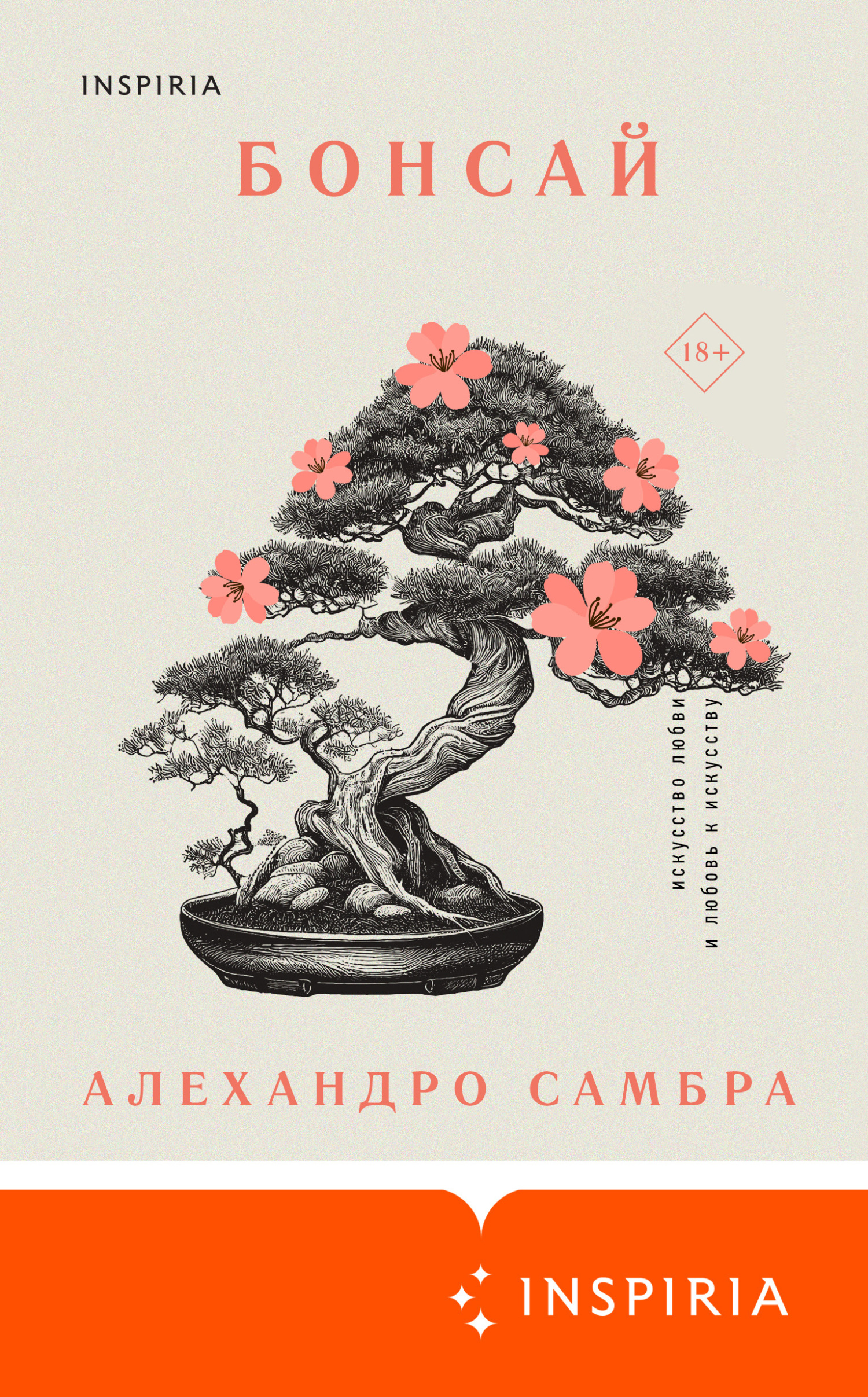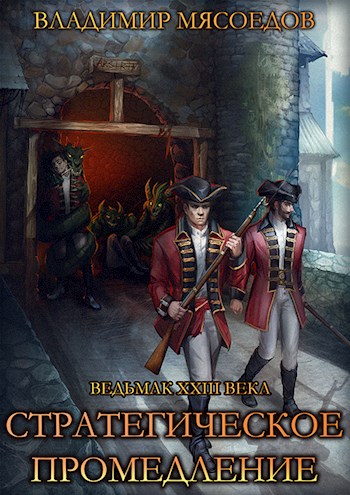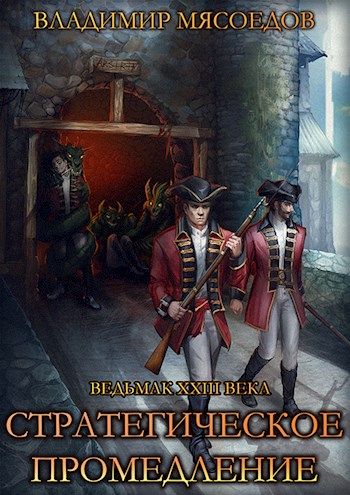Шрифт:
Закладка:
История об отцах и детях, амбициях и неудачах, а также о том, что значит создать семью. Это ответ на вопрос, что значит быть мужчиной в отношениях – партнером, отцом, отчимом, учителем, любовником, писателем и другом. Самбра полноценно раскрывает тему отношений на всех этапах.После случайной встречи в ночном клубе начинающий поэт Гонсало воссоединяется со своей первой любовью Карлой. И хотя их влечение друг к другу не остыло, изменилось многое другое: среди прочего, у Карлы теперь есть шестилетний сын Висенте. Вскоре все трое образуют счастливую семью – сводную семью, хотя в их языке нет такого слова.В конце концов амбиции тянут влюбленных в разные стороны, но все же маленький Висенте наследует любовь своего бывшего отчима к поэзии. Когда в восемнадцать лет Висенте встречает Пру, американскую журналистку, он побуждает ее писать о чилийских поэтах – не о знаменитых, мертвых, а о живых. Приведет ли это расследование Висенте и Гонсало обратно друг к другу?«Чилийский поэт» – роман о том, как мы выбираем наши семьи и как мы иногда предаем их. Это ответ на вопрос, что значит быть мужчиной в отношениях – партнером, отцом, отчимом, учителем, любовником, писателем и другом.