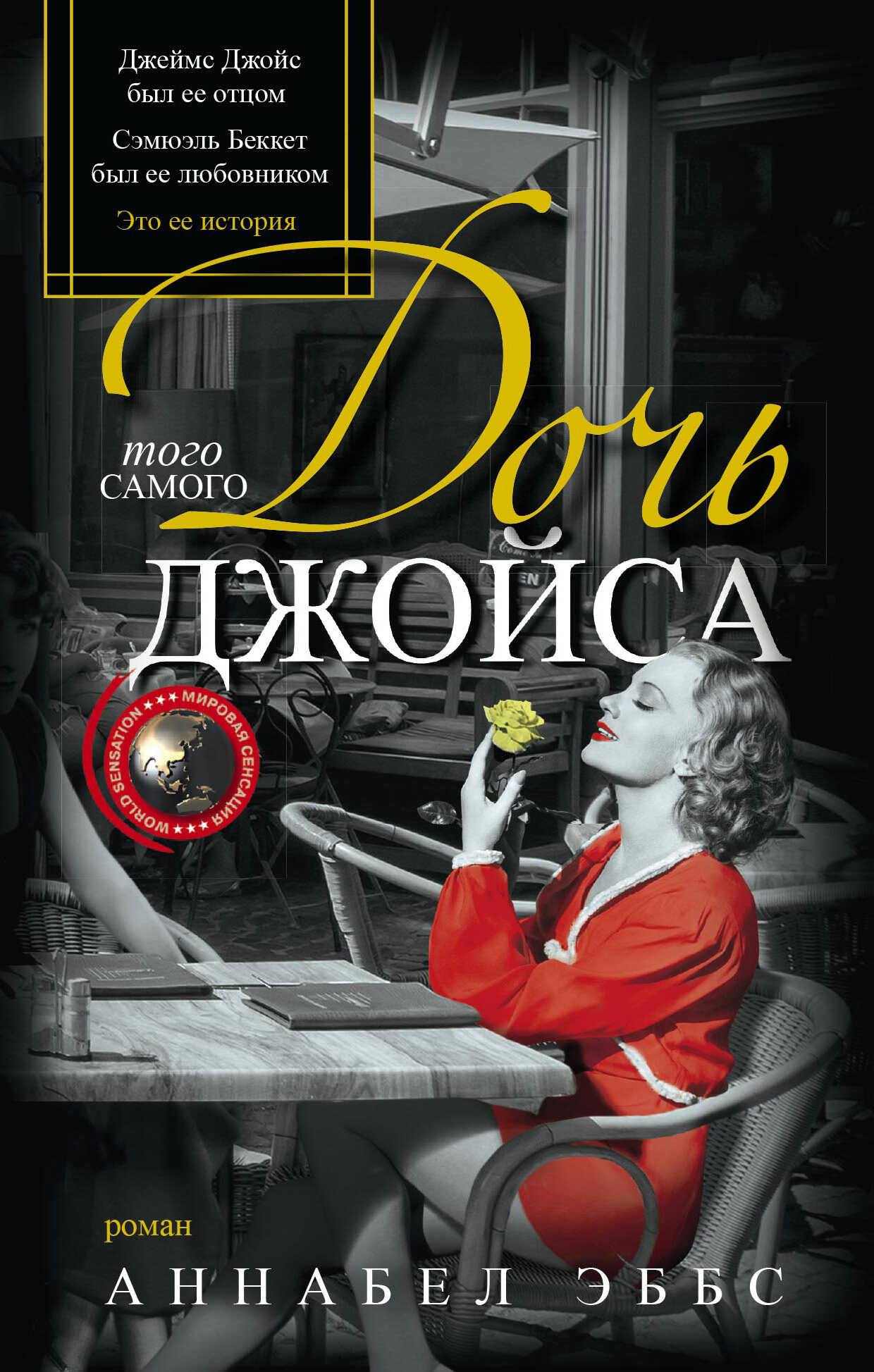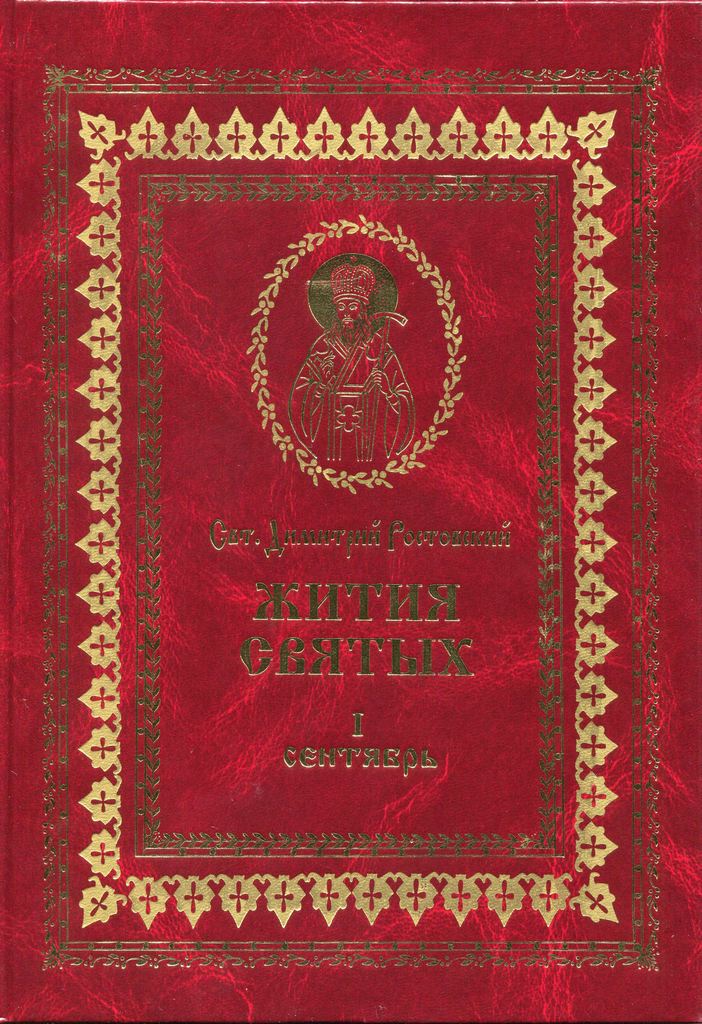Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга о любви, творчестве и жизни в тени гения. Завораживающее повествование о драматической судьбе Лючии Джойс, дочери писателя Джеймса Джойса, автора знаменитого «Улисса», танцовщицы, блестяще дебютировавшей на одной из лучших сцен Парижа, талантливой художницы, красавицы, прекрасно говорившей на четырех языках. Что же подорвало так ярко начавшуюся жизнь Лючии? Отчего закатилась ее сверкающая звезда? Автор рассказывает потрясающую и малоизвестную историю, произошедшую в один из самых насыщенных культурных периодов XX века.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Аннабель Эббс»: