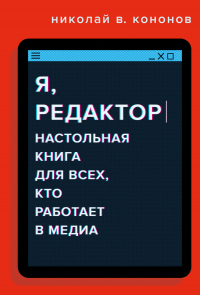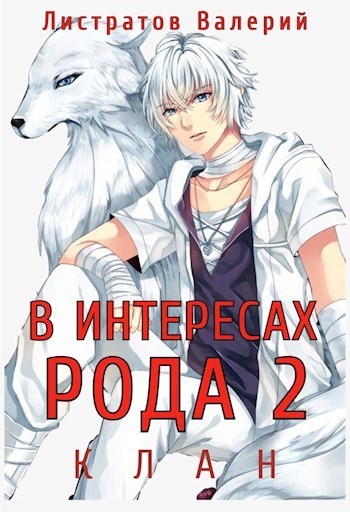Шрифт:
Закладка:
Ужас празднует юбилей. Магия чисел пугает…Перед вами – ДЕСЯТАЯ ежегодная антология «Самая страшная книга» – «Самая страшная книга 2023». В нее вошли ДВАДЦАТЬ ТРИ истории от ДВАДЦАТИ ТРЕХ авторов. Как обычно, эти истории отбирали сами читатели – их было ДЕВЯНОСТО. Больше, чем когда-либо.Общий тираж наших книг составляет порядка ДВУХСОТ ТЫСЯЧ экземпляров. Аудиоверсии наших рассказов на YouTube-канале «ССК (САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА)» за год прослушали более ТРЕХ МИЛЛИОНОВ раз.Читайте и бойтесь вместе с нами! Страшитесь таинственных «гостей», обитающих в пыльных шкафах и заброшенных зданиях. Остерегайтесь чудовищ из городских легенд и народных поверий. Дрожите перед мертвецами со старых фотографий и перед живыми людьми, воплощающими в себе жестокость и злобу. Оглядывайтесь с опаской – не следует ли за вами нечто «с той стороны», не тянет ли к вам «красные нити» некто, умеющий подчинять себе реальность. И не меняется ли сама эта реальность, пока вы листаете страницы этой книги?..Бойтесь вместе с нами – и празднуйте с нами. Приветствуйте Святую Смерть и поклонитесь Богам Падших. Испейте ваш страх до дна и загляните в бездну, скрытую в вас самих.Это – САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА. Лучшее в русском хорроре!