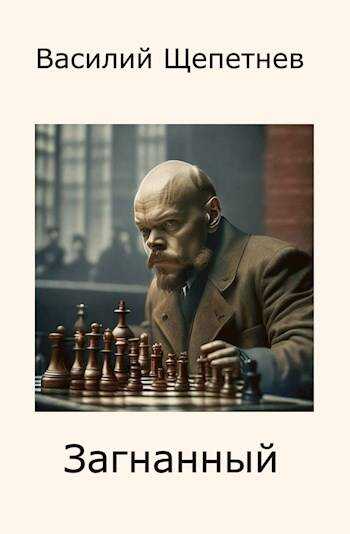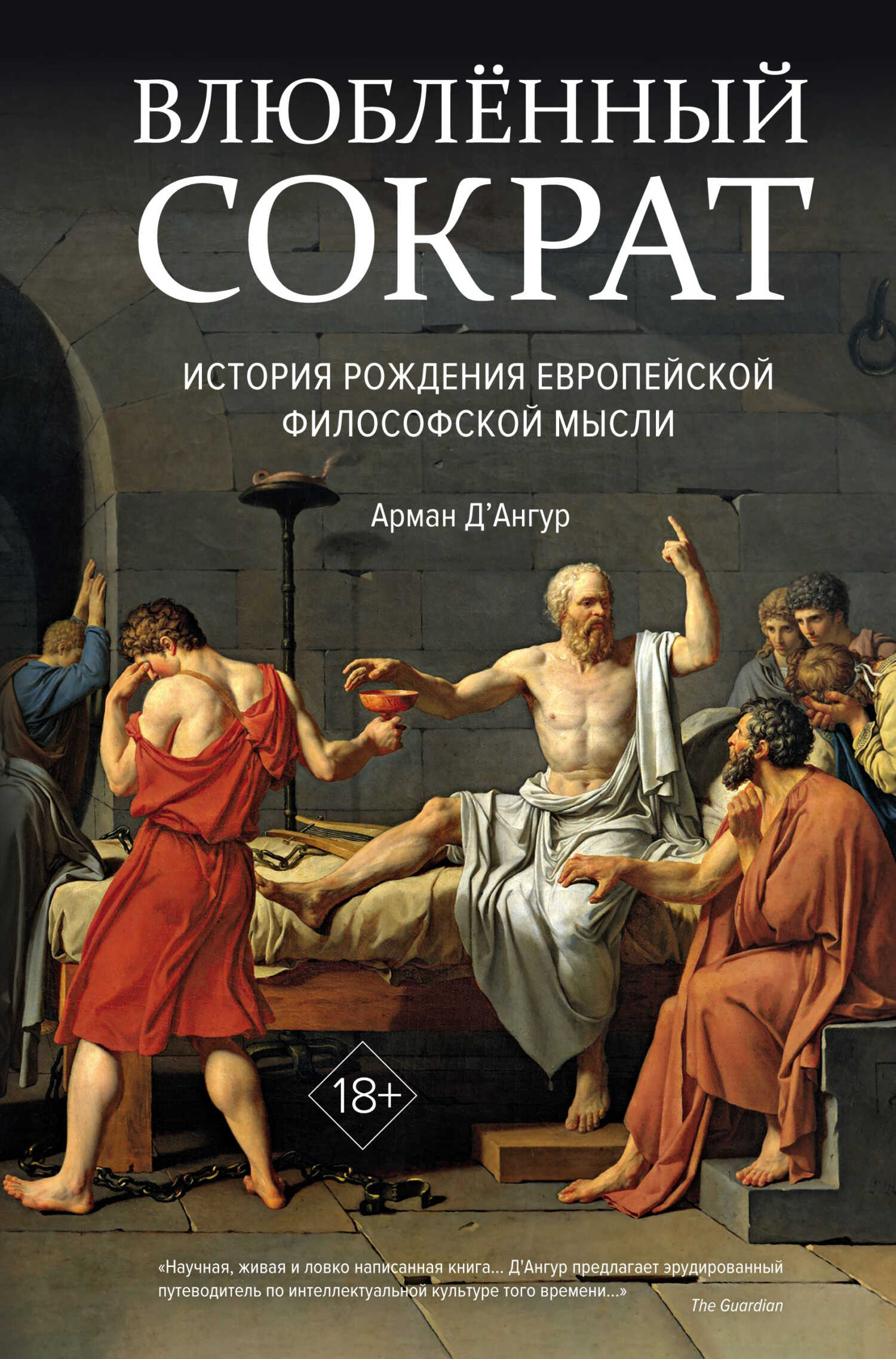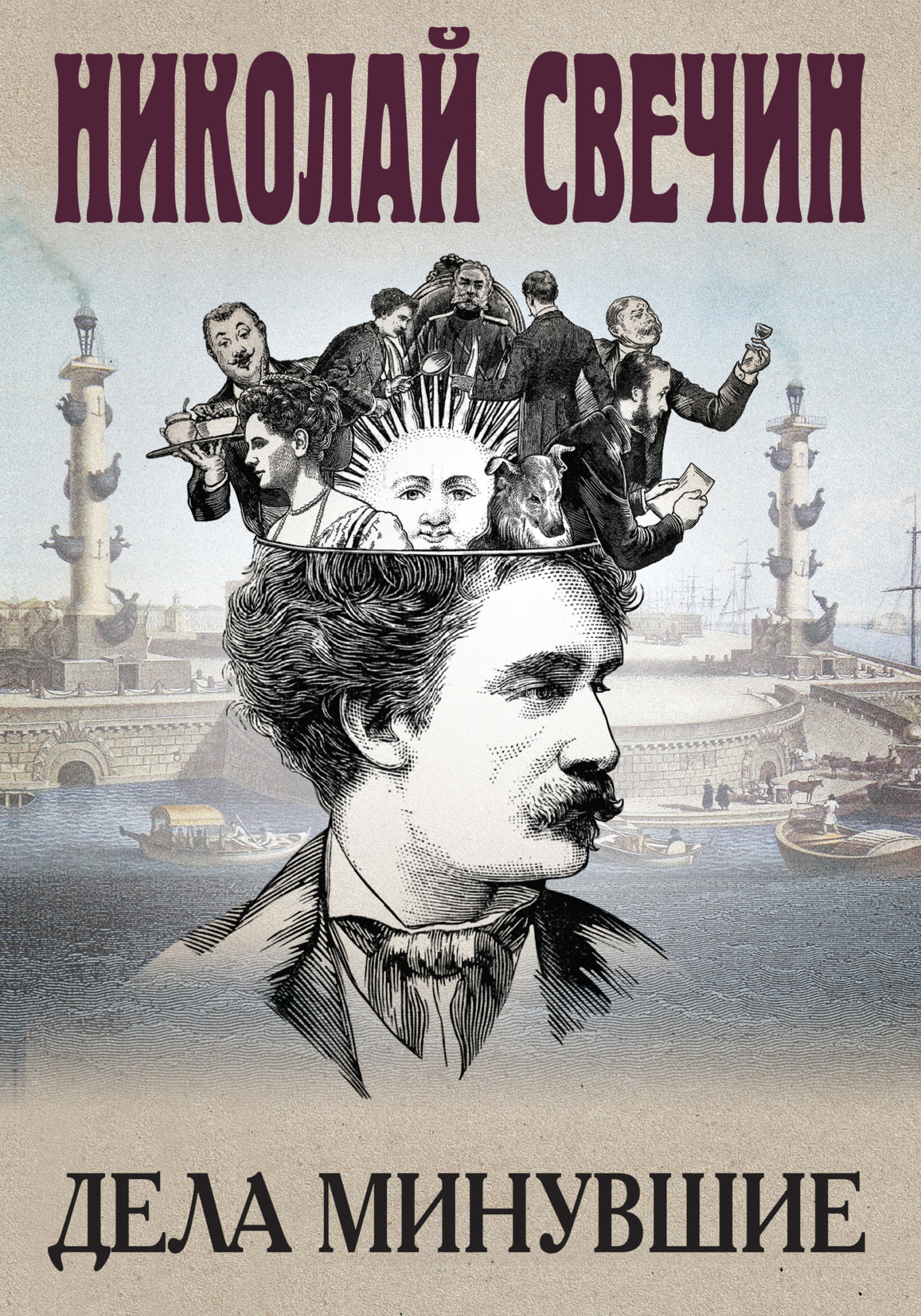Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Подвиги величайшего шахматиста всех времен и народов долгое время оставались тайной за семью печатями. Но сейчас... Сейчас можно и рассказать о тайной стороне Игры.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Василий Павлович Щепетнёв»: