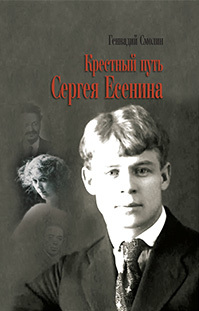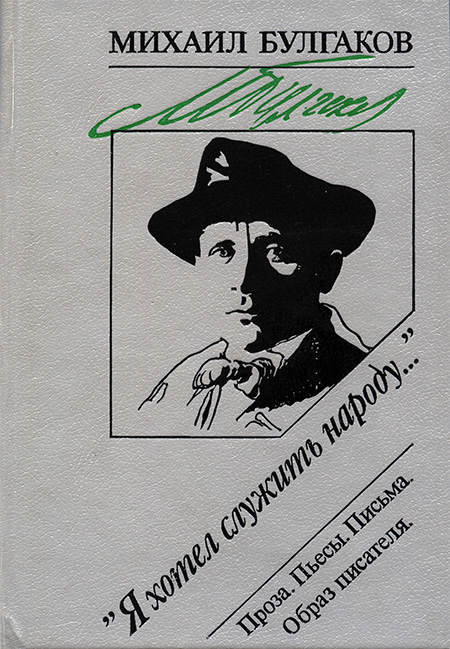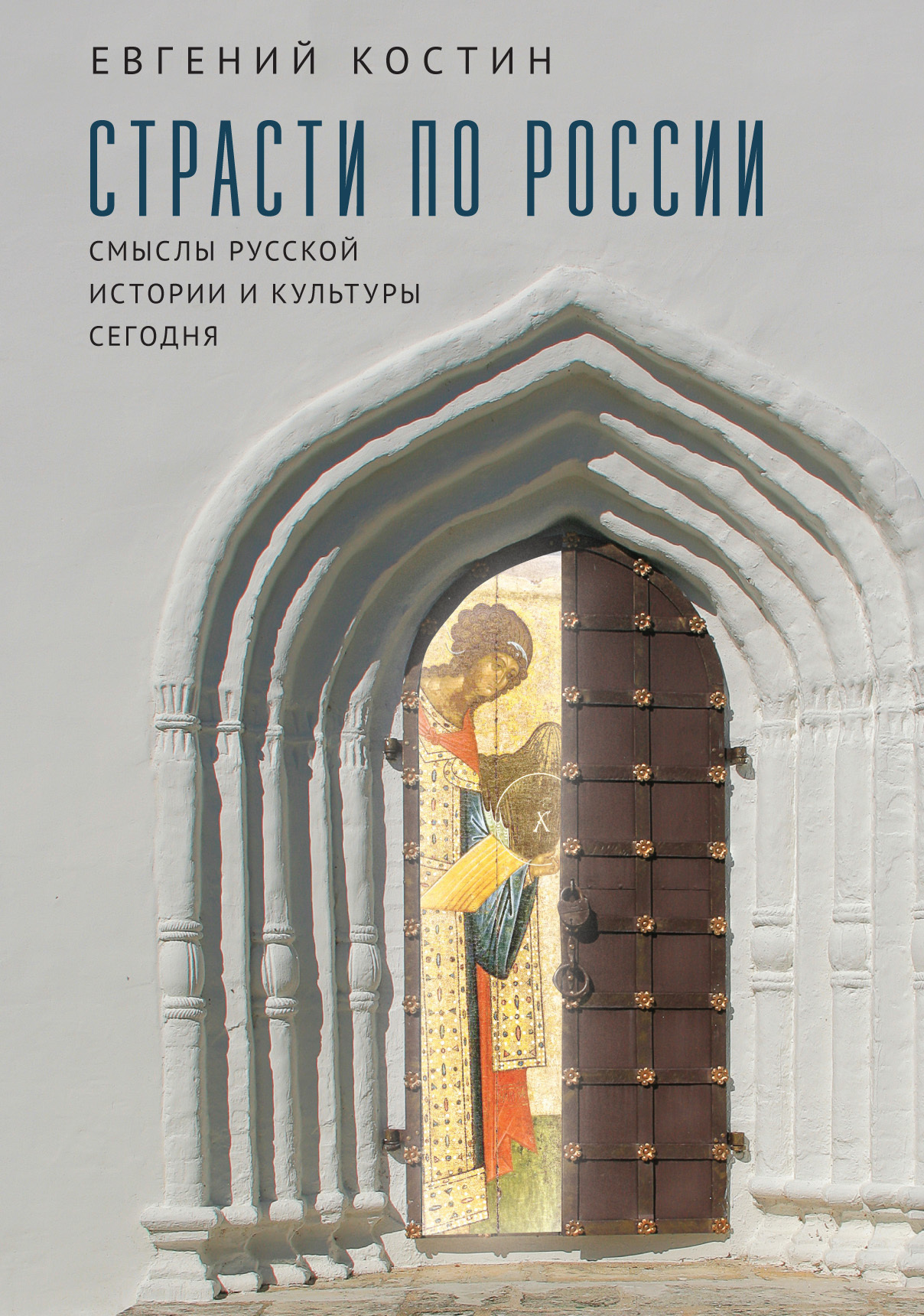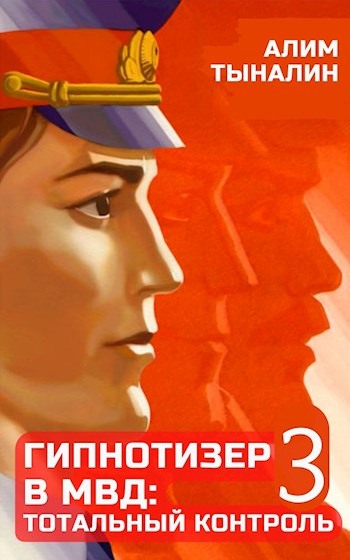Шрифт:
Закладка:
Автором собран и обработан ценнейший, в том числе и архивный материал, заново открывший и существенно скорректировавший важные вехи трагической биографии Булгакова. Тут и тайные протоколы заседаний Политбюро ЦК ВКП (б), и секретная переписка его членов, отрывки из конфискованного дневника Булгакова и донесения о нем агентов ОГПУ, письма Булгакова, его родных, друзей, врагов.Неравнодушному читателю предлагается увлекательное, насыщенное неизвестными фактами литературное расследование преждевременной гибели великого русского писателя. Тут есть все: удивительная и таинственная жизнь и судьба Михаила Булгакова; загадки и превратности творчества литератора в связи с такими знаковыми именами, как Сталин, Ленин, Троцкий, Станиславский, Горький или шеф ОГПУ-НКВД Генрих Ягода. Не обойден и такой важный вопрос, как «коллектиный Сальери» и его роль в устранении Булгакова. Особое внимание уделено теме Ордена Тамплиеров в России, тайному посвящению великого писателя в кавалеры Ордена, главную роль в котором сыграл знаменитый идеолог анархистов и командор Ордена «Святого Георгия» А. А. Карелин. Без всего этого невозможно понять и принять фантастическую фигуру Булгакова и его закатный роман «Мастер и Маргарита».