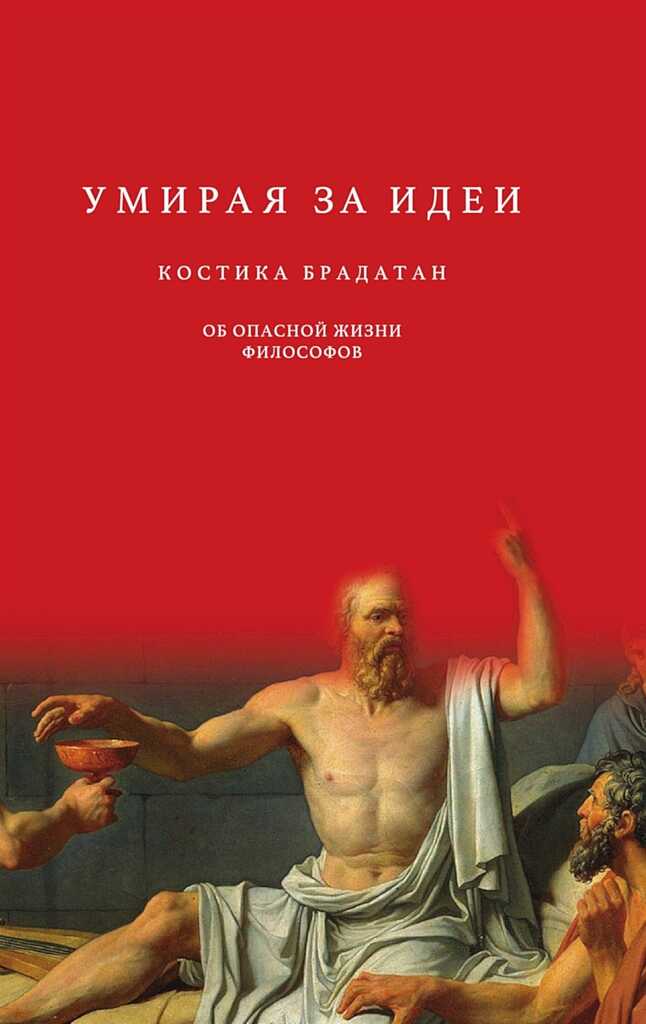Шрифт:
Закладка:
Однако было бы неправильно расценивать акт «провозглашения истины» как проявление власти. Власть обычно относится к категории грубой силы и не может возникать из такого деликатного занятия, как «провозглашение истины». Строго говоря, философ не занимается ничьим ниспровержением, не свергает правительства и не разоблачает тирании. Фигура «философа-правителя» является фантастической, и такой она и должна восприниматься: это выражение желания, которое по самой своей сути так и остается неосуществленным. Истинные отношения между «философом» и «правителем» были раскрыты Фуко, возможно, помимо его воли, в примере, который он использует, пытаясь дать определение parrēsía. Он говорит, что, когда философ обращается к правителю, к тирану, говоря, что его тирания раздражает, она неприятна, поскольку тирания несовместима со справедливостью, тогда философ говорит истину, верит, что он говорит истину, и, более того, также рискует (поскольку тиран может разгневаться, может наказать его, может изгнать его и может даже убить)[435].
Фуко использует этот образ в своих целях, но, на мой взгляд, пример является хорошей иллюстрацией истинных отношений, связывающих философа с властью. Конечно, философ в состоянии «провозглашать истину», но это почти все, что он может делать. Закончив говорить, он достигает своего предела. Прочие — активисты, журналисты, политические писатели — могут сделать больше, но философ как философ не может. Само провозглашение — рискованное занятие, но слова философа будут иметь только тот вес, который решит придать им тиран. Тиран может решить обезглавить философа, поспорить с ним, выгнать его или просто, улыбнувшись, поблагодарить за потраченное время. Тиран может делать или говорить все, что ему заблагорассудится, в то время как философ не может сделать ничего. Он даже не может покинуть комнату, не получив на то разрешения тирана. В заключении, как и в начале, до того, как истина была провозглашена, тиран обладает всей властью, а философ — никакой. Фигура тирана сама по себе значима. На Западе, пользуясь всеми правами и привилегиями, которые может предложить либеральная демократия, мы часто забываем, что в историческом плане представительная демократия является скорее исключением, чем правилом. В конечном итоге мы проецируем на прошлое, а также на все прочие места наше собственное понимание политики, политической власти и участия, сформированное, даже обусловленное нашим собственным опытом. Поэтому в более широком историческом масштабе многое из того, что происходит между тираном и философом, остается в некотором смысле недоступным для нас.
По иронии судьбы бессилие философа происходит именно из его parrēsía. Ведь именно его потребность или «обязанность» «провозглашать истину» мешает ему когда-либо обрести настоящую власть. Фуко забывает или не хочет говорить, что parrēsía может быть также проклятием. В ней есть нечто, что делает ее сомнительной практикой. Этимологически parrēsía происходит от parrēsiazesthai (pán и rhēma), то есть высказать все, «безоговорочно», выразить свое мнение напрямую. Предполагается, что вы не в состоянии сказать всю правду и что-то умалчиваете: чтобы быть правдивым, вы должны покончить со всем, сказать обо всем (pán). Излагая этимологию слова, Фуко сам представляет собой иллюстрацию parrēsiastēs, выражая свое мнение подобно тому, кто говорит «все, что он имеет в виду». Parrēsiastēs «ничего не скрывает». Вместо этого он открывает свое «сердце и разум полностью другим людям через свой дискурс»[436].
Проклятие parrēsía проявляется в этимологии слова: никто не хочет, чтобы ему «все» высказали. В то время как parrēsía с философской точки зрения может быть привлекательной идеей, в социальном плане она может являться причиной катастрофы. Всегда есть что-то, о чем мы не хотим слышать, вещи, которые скрываем, даже от самих себя. Общественная жизнь возможна именно благодаря этому неназванному и несказанному. Именно не «рассказывая обо всем» мы в состоянии жить рядом с другими людьми. Действительно, удовольствие жизни в мирном обществе обусловлено тем, что мы решаем предать молчанию. Это не лицемерие, это милосердие. Милосердным взором я смотрю на соседа, прилагая некоторые усилия не видеть того, что не нужно видеть. Я являюсь соучастником его слабостей, пороков и маленьких грязных секретов так же, как он — моих. Мы встречаемся взглядами, полными взаимопонимания и взаимного прощения. Социальное прощение предполагает сложный «общественный договор», а также дар. Благодаря этому дару, который мы постоянно раздаем друг другу, общество может беспрепятственно функционировать. А теперь представьте, что в один прекрасный день появляется некто с плакатом, на котором написано «Ничего не должно остаться недосказанным!». Разве такая личность не будет автоматически названа «врагом рода человеческого»? Вот почему важно понимать, что прямолинейно говорящий философ не способен обрести политическую власть.
Политическое призвание предполагает великолепную способность налаживать связи с другими людьми, участвовать в социальных играх и спонтанно идентифицировать себя со всеми, кто подписал общественный договор. Вы — политик в той степени, в какой можете ощущать полис как обширную сеть связей, которые возникают в результате невысказанного и незнаемого. Вы можете связаться с кем угодно, и любой может связаться с вами, потому что вы взаимно инвестируете либо в статус-кво, либо в программу его изменения. С политической точки зрения крайне важно, чтобы эти узы были признаваемыми, сохраняемыми и развиваемыми. Вот почему настоящий политик является экспертом в области искусства умалчивания. На самом деле он должен инстинктивно понимать, что нельзя говорить или называть.
Излишне говорить, что философ, любитель parrēsía, представляет собой полную противоположность такому политику. Если он и преуспевает в каком-либо искусстве, так это искусство разрывания оков и сжигания мостов. По определению, parrēsía уничтожает оковы. Что характерно, замечания и комментарии parrēsiastēs часто называют «едкими»; лишь немногие общественные связи могут выдержать их разъедающий эффект. Parrēsía убивает гармонию социальных взаимодействий, основанных на постыдной информации, которой обмениваются и одновременно скрывают друг от друга. Сократ это слишком хорошо понимал: «Вот вам, афиняне, правда, как она есть, и говорю я вам ее без утайки, не умалчивая ни о важном, ни о пустяках. Хотя я почти уверен, что тем самым я вызываю ненависть»[437]. А как он мог быть популярным, делая то, что делал? Прочитанное в обратном порядке, его высказывание (в платоновском «Горгии») о том, что «я, в числе немногих афинян (чтобы не сказать — единственный), подлинно занимаюсь искусством государственного управления и, единственный среди нынешних граждан, применяю это искусство к жизни»[438], представляет собой признание, достаточно иронично, что он не обладает тем, что необходимо, чтобы быть политиком в обычном смысле этого слова.
Делая то, что он делает, parrēsiastés отделяет себя от своего сообщества. Очень немногие хотели бы