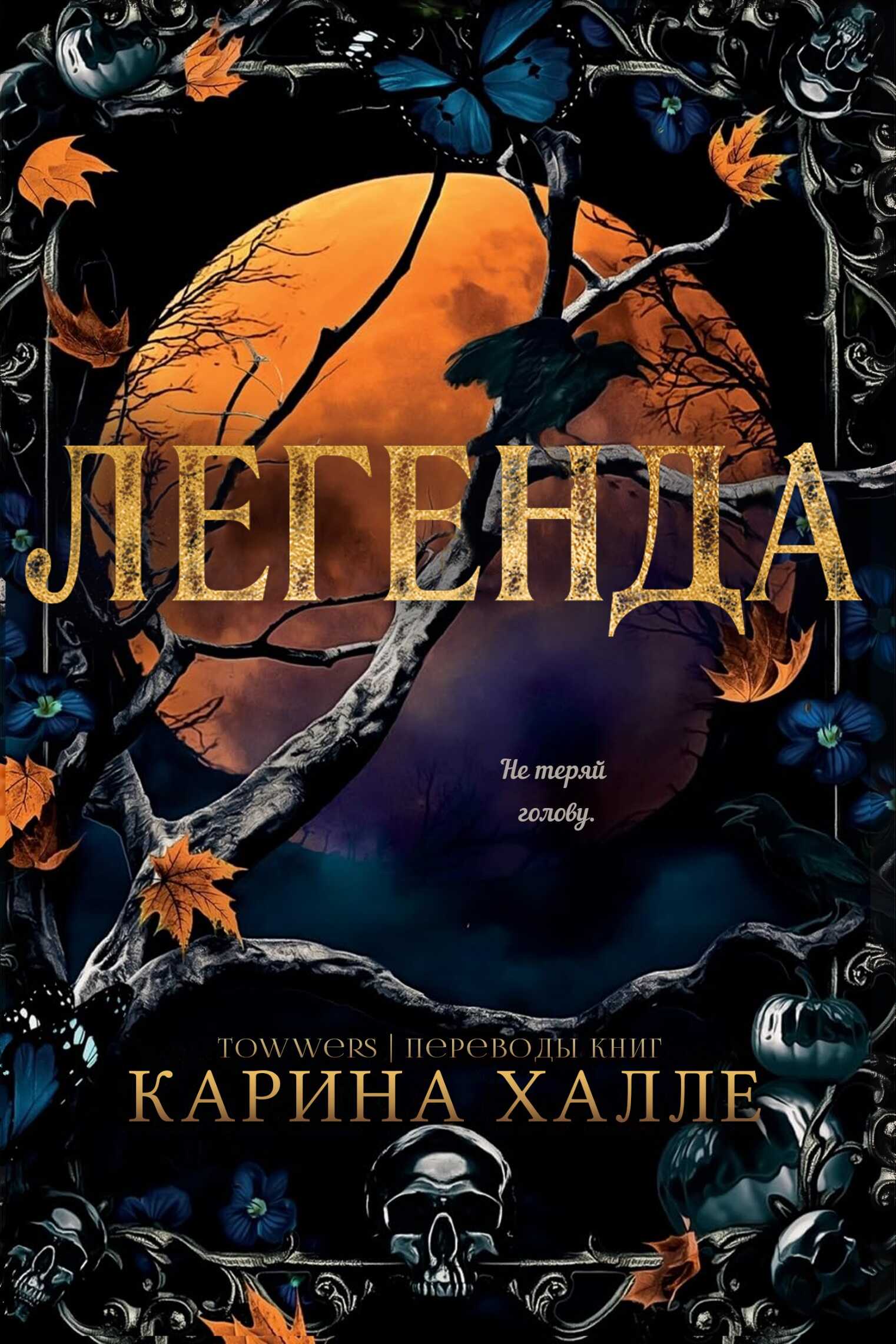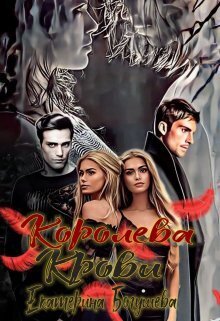Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Не ходи, девица, в темный лес. Не ищи зачарованного родника, что открылся промеж корней древа полозова. Не бери воды. А коль возьмешь, то берегись, ибо непроста эта водица. Потечет по лицу слезами непролитыми, да и смоет, что страх, что боль, что любовь, которая пуще иного яда. Бекшеев и Зима отправляются в небольшую деревеньку Змеевку. В окрестностях её находят тела молодых женщин, умерших от укуса гадюк. И вроде бы не так уж часты подобные несчастные случаи, и гадюк в окрестностях хватает, но что-то заставляет сомневаться. Так ли все просто?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Карина Демина»: