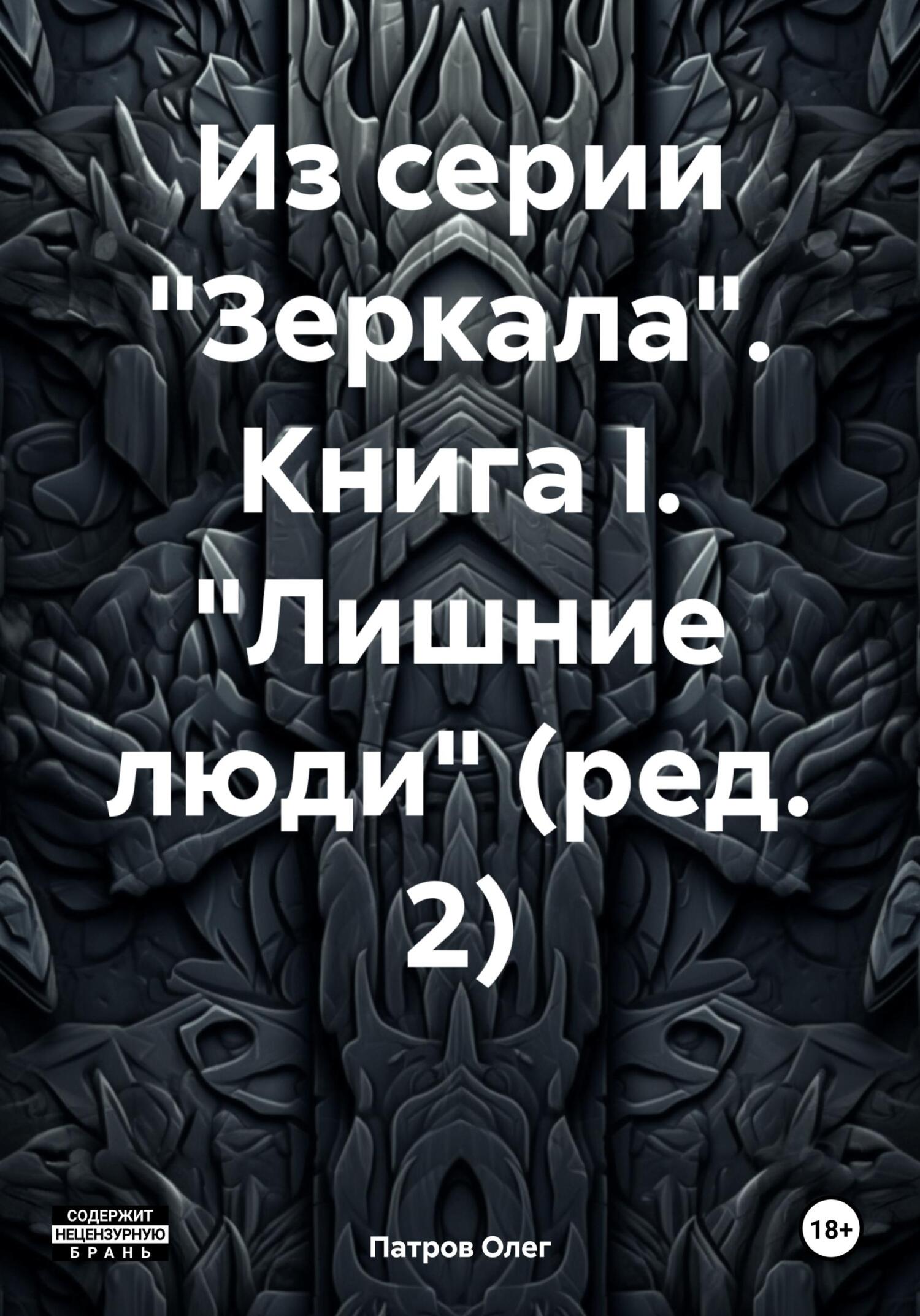Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Простые истории, чтобы жить и думать. Жить и мириться. Жить и держать в руках свое бытиё. Маленькие поводы для возвращения Диалога с Совестью. С собой. С миром. С теми, кого уже нет рядом. С сердцем, которое когда-то жило… Но разве оно мертво?.. Если живешь в полную силу – можешь быть чем-то большим, чем песчинка на подошвах у Судьбы… И прорезается голос… Чей?.. Тебе решать. В твоих руках кроется всё. Не подведи.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Олег Патров»: