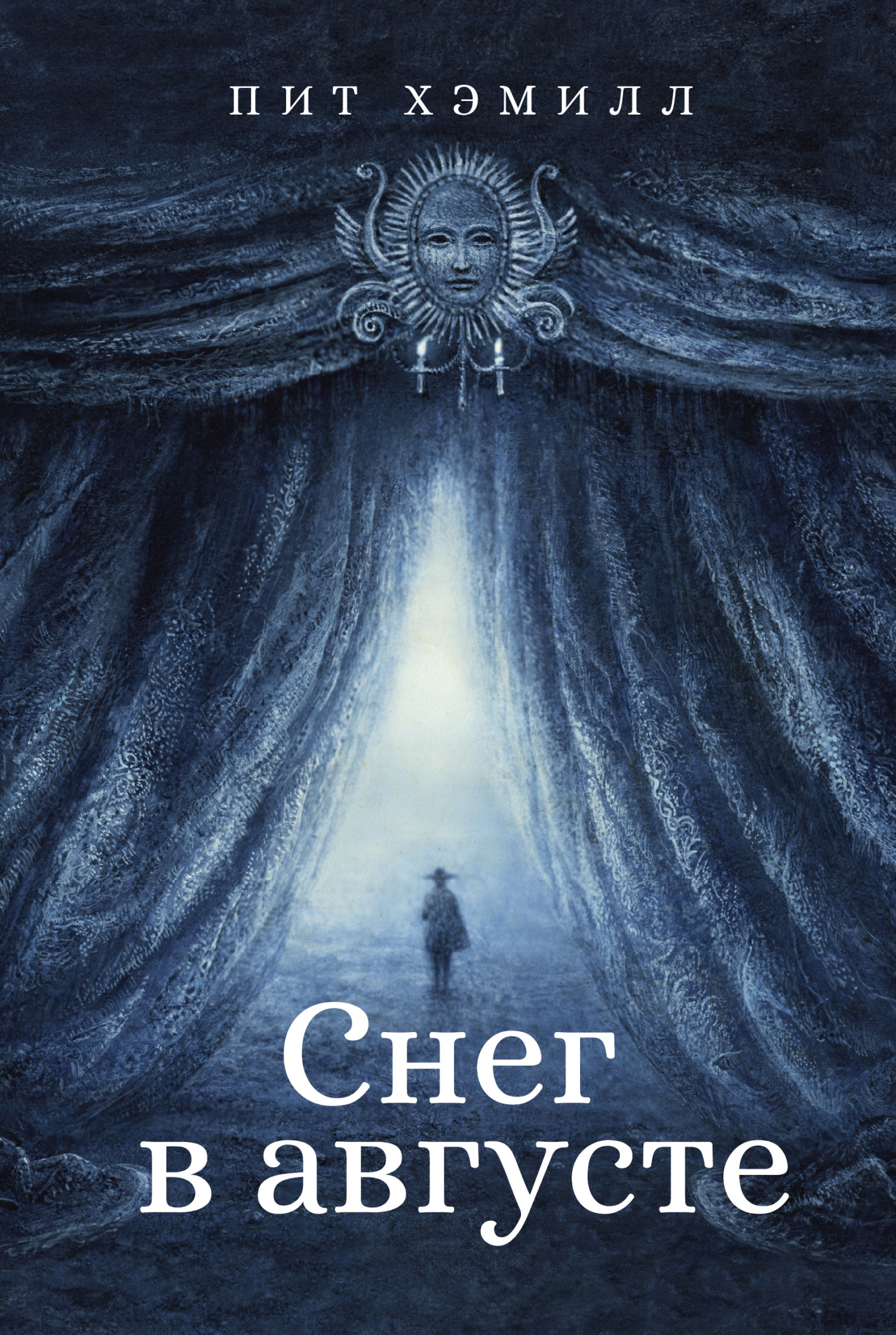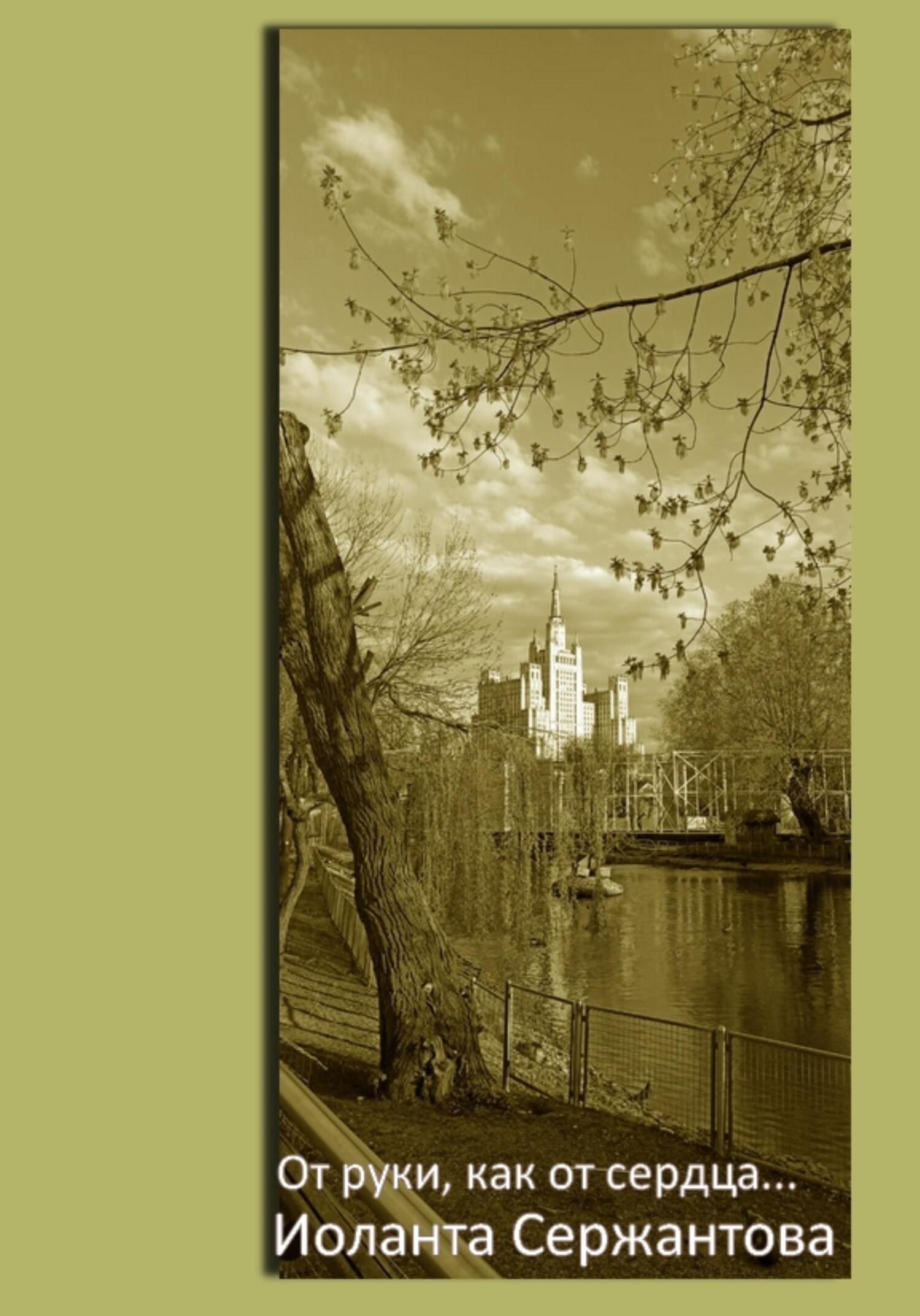Шрифт:
Закладка:
Книга “Снег в августе” Пита Хэмилла - это волшебный и трогательный роман, который рассказывает о дружбе между одиннадцатилетним мальчиком и старым раввином в Нью-Йорке 1940-х годов. Главный герой, Майкл Девлин, живет в бедном ирландском квартале, где он сталкивается с насилием, расизмом и бандитизмом. Его единственным убежищем является книжный магазин, где он любит читать комиксы о супергероях. Однажды он спасает от нападения старого еврейского раввина, Джуда Хирша, который живет в соседнем квартале. Между ними завязывается необычная дружба, в ходе которой Майкл узнает много нового о еврейской культуре, истории и мистике. Он также узнает о древнем обряде создания голема - искусственного человека из глины, который может защищать своего хозяина от зла. Майкл решает попробовать создать своего голема, чтобы противостоять банде, которая терроризирует его район. Но он не подозревает, какие последствия может иметь его поступок.
Книга “Снег в августе” - это книга для тех, кто любит удивительные и поучительные истории, написанные в жанре магического реализма. Автор создает ясную и колоритную картину Нью-Йорка послевоенного времени, в которой сочетаются реальность и фантазия, традиция и модернитет, тьма и свет. Книга написана простым и красивым языком, который не дает читателю заскучать ни на минуту. Книга “Снег в августе” - это книга, которая учит ценить дружбу, толерантность и чудо. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com