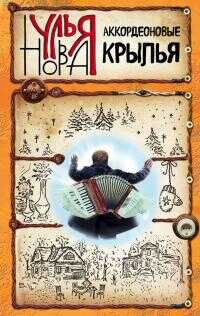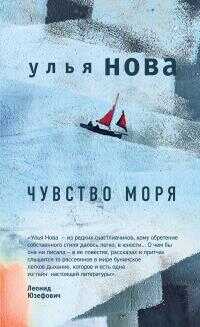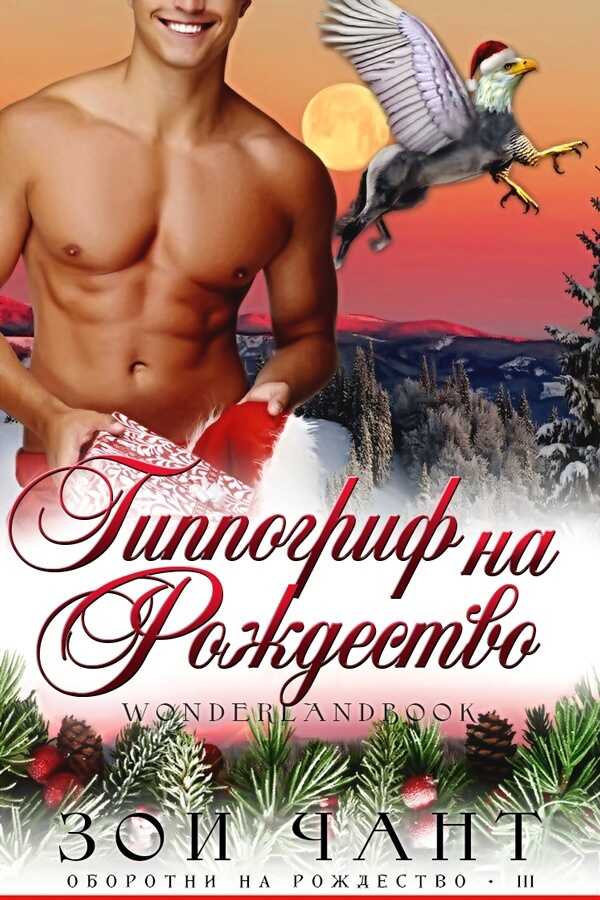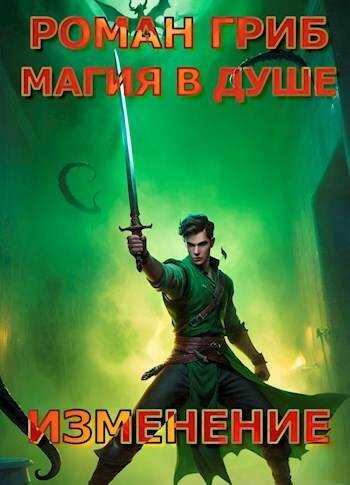Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Работала Антонина на кондитерской фабрике. Носила юбки и платья необъятных размеров. И не догадывалась, что скоро случится у нее великая любовь с седеющим аккордеонистом, который наигрывает вальсы возле метро. Любовь случилась, но счастливая жизнь не обещала быть долгой… Антонина с легким сердцем отпустила его – когда аккордеонист, прощаясь, разбежался на пустынном перроне и улетел на крыльях своей музыки, навсегда оставляя в сердце возлюбленной нежность и боль…Перед вами сборник новелл, которые объединяет не только стиль повествования – в них переплетаются «цветочная» нить любви и «черная» ниточка боли. И «цветочного» в них, как и в нашей жизни, все-таки больше!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Улья Нова»: