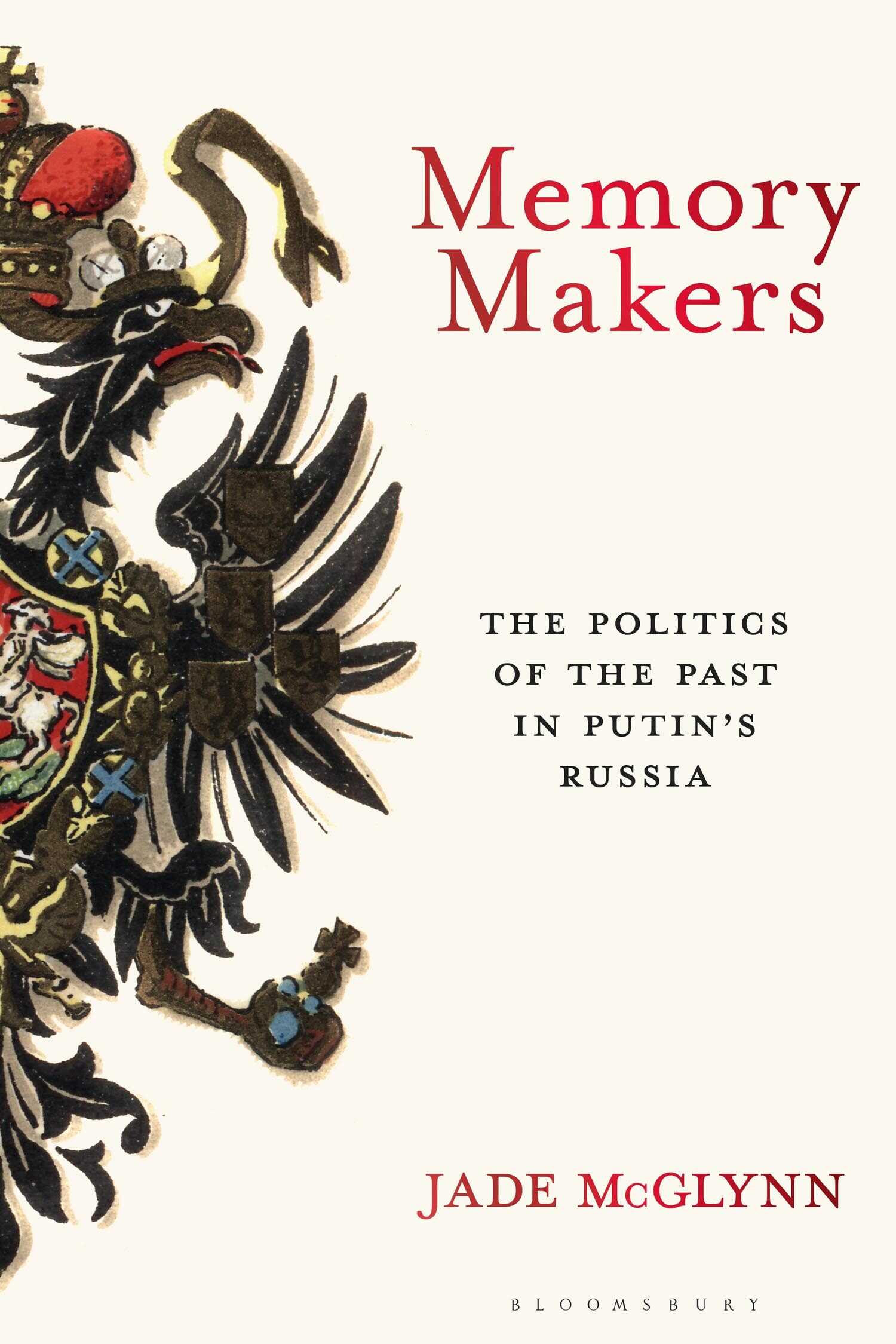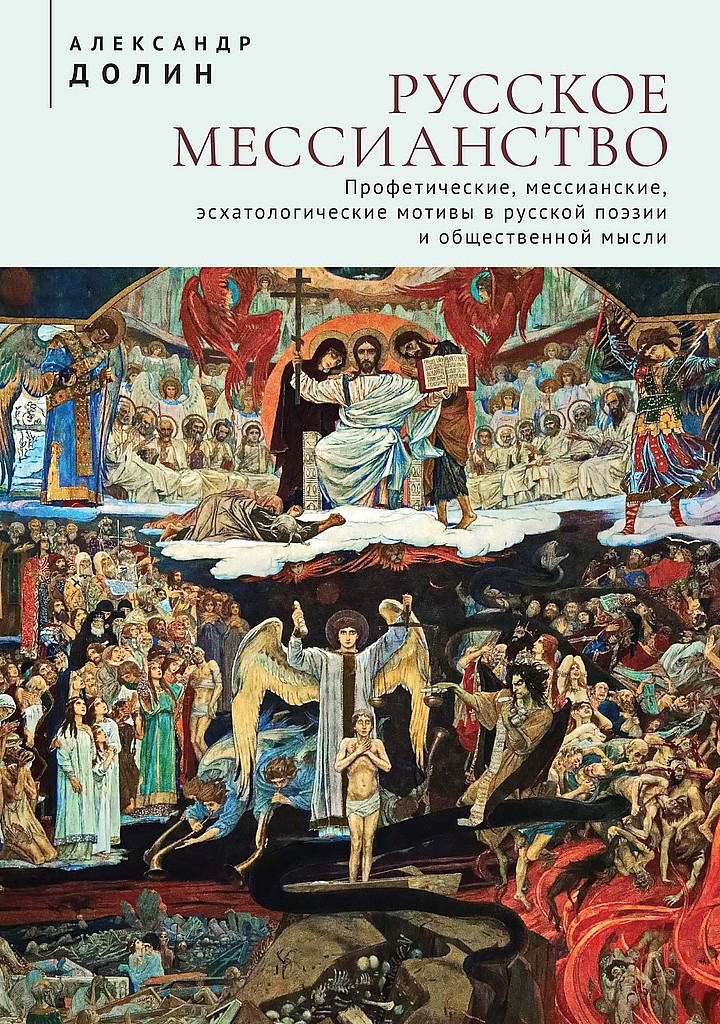Шрифт:
Закладка:
Обращение к истории и интенсивное политическое использование прошлого являются следствием и фактором, способствующим формированию политики и общества, в которых история и идентичность все теснее переплетаются. Как уже отмечалось, часто можно напрямую сравнивать с тенденциями в России. Вернемся к Великобритании: в 2020 году в нескольких городах прошли масштабные акции протеста против колониальных статуй и колониального наследия Великобритании. Особенно протестующие выступали против прославления рабовладельцев. В ходе протестов поднимались существенные темы, достойные взвешенных дебатов, но в итоге обе стороны часто сводили их к чрезмерному акценту на исторической фигуре Уинстона Черчилля и на том, следует или не следует его "отменять". Естественно, что противостояние одной из сторон лишь поляризовало тех, кто почитал Черчилля и рассматривал любую порчу его статуи не только как попытку подорвать или оспорить его легитимность, но и как вызов идентичности людей и их представлению о себе. Наблюдая за тем, как ультраправые съезжаются в центр Лондона, чтобы защитить от протестующих статую Черчилля на Парламентской площади, трудно было не провести параллели с батальонами обороны, созданными на Украине для защиты ленинских и советских военных мемориалов в начале войны на Донбассе в 2014 году. Еще сложнее было не провести параллели между британским и российским правительством, когда примерно в это же время тогдашний министр культуры Оливер Дауден начал часто писать колонки в СМИ, в которых осуждал непатриотичных или "проснувшихся" активистов и их мнимую одержимость очернением английской истории.
Таким образом, в Великобритании и других странах действуют силы, аналогичные российским. Как и в российских примерах, политики и некоторые представители СМИ смешивают прошлое с настоящим, часто используя первое для объяснения того, почему что-то происходит или будет происходить в будущем, что соответствует основному определению исторического фрейминга. Министры и журналисты превращают интерпретацию истории в вопрос о том, кто является патриотом, а кто принадлежит к нему. Тот факт, что исторический нарратив всегда является отражением того, кто, по мнению элиты, должен принадлежать (то есть должен быть отражен в нарративе), превращается в уравнение, согласно которому если ты не поддерживаешь нарратив, то ты не принадлежишь. Наличие свободных и демократических СМИ в Великобритании и других перечисленных выше либеральных демократиях не обязательно подорвет силу и потенциал таких нарративов, но они обеспечат оспаривание и предотвратят кодификацию, которая подавила историческое расследование и объективную правду в России. Однако в худшем случае такая свобода может привести к усилению поляризации и подорвать некоторые конструктивные или объединяющие аспекты интенсивного использования Кремлем прошлого в России.
Хотя приведенные выше примеры, как и результаты моего исследования, представляют собой мрачную картину использования исторического фрейминга, тем не менее есть свидетельства того, что присущая ему мобилизационная и эмоциональная привлекательность может быть использована в позитивных целях. Исследование документальных фильмов о миграции в Швеции и Германии показало, что в них широко используются исторические параллели для обоснования промигрантской позиции после кризиса мигрантов и беженцев 2015 года (Wagner and Seuferling 2019). Украинское правительство также позитивно использовало мифы Второй мировой войны, чтобы вдохновить свою нацию на сопротивление российскому вторжению. Таким образом, обращение к истории не является по своей сути негативным действием или импульсом к "инаковости". На самом деле, возможно, только противопоставляя различные, нюансированные исторические нарративы или различные интерпретации истории тем, на которые ссылаются популисты со всех сторон, можно противостоять эмоциональной привлекательности более негативных типов исторического фрейминга, описанных в этой книге, а также сопутствующим претензиям на подлинность и высшее чувство истины. Изучение того, как нейтрализовать медийные нарративы, инструментализирующие мощные культурные воспоминания, станет еще более актуальным в эпоху, омраченную политической непредсказуемостью и так называемым национальным популизмом (Eatwell and Goodwin 2018). Важно, чтобы эмоциональная сила исторического языка не была просто уступлена демагогам.
Хотя точные способы противодействия этой демагогии выходят за рамки данной книги, появление исторического фрейминга и интенсивного политического использования истории не только в России, но и в различных и весьма разнообразных странах показывает, что внимание к политическим процессам и дискурсу в России необходимо для понимания глобальных политических процессов. В силу советского наследия и авторитарного режима Россия представляет собой экстремальный пример подрыва (и переопределения) истины в политическом дискурсе, но эта грубость облегчает выявление закономерностей, которые могут присутствовать, но в меньшей степени проявляться в других обществах. Дополнительный импульс этому придает продолжающаяся война России в Украине, которая функционирует почти как тест кремлевской исторической пропаганды и способности экспортировать за рубеж свое видение культурного сознания как квинтэссенции национальной идентичности, находящейся в предполагаемой "исторической правде". Пишу в апреле 2022 года, что российское вторжение потерпело неудачу при контакте с реальными украинцами, в отличие от тех, которые сконструированы в мифоманских умах. Но это не должно отвлекать от того, что аргумент о культурном самосознании служит громоотводом и легким объяснением того, почему та или иная нация является уникальной и особенной, что делает его привлекательным для многих политиков. Пока создание памяти остается такой продуктивной тактикой, правительства и другие субъекты памяти во всем мире, вероятно, будут продолжать расширять инструментализацию памяти, рассматривая прошлое не как пролог, а как удобный предлог. Пусть выжженные обломки и расчлененные тела, разбросанные по украинским землям, станут свидетельством злобной силы памяти и мифотворчества.