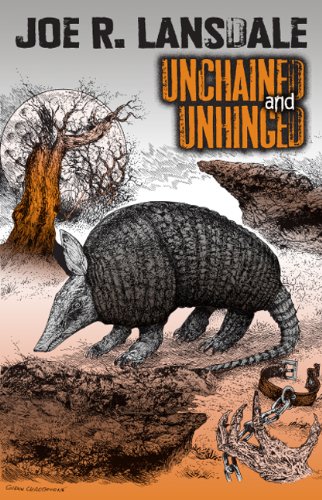Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Самое полное собрание повестей и рассказов Джо Р. Лансдейла на русском языке. 17 микрорассказов переведены специально для данного сборника.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Джо Р. Лансдейл»: