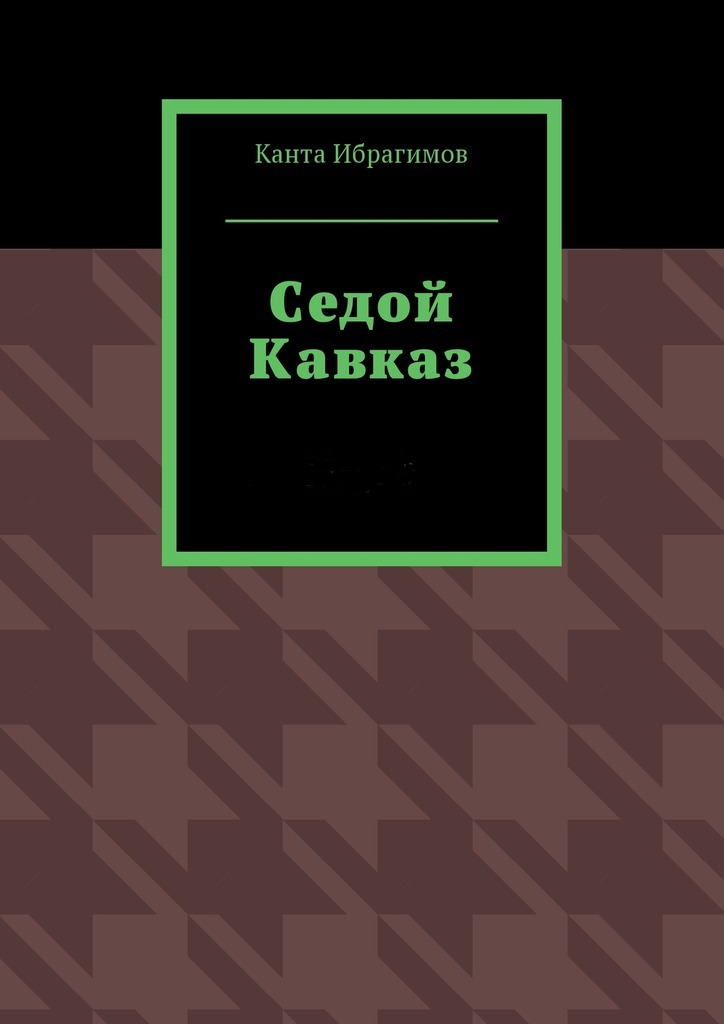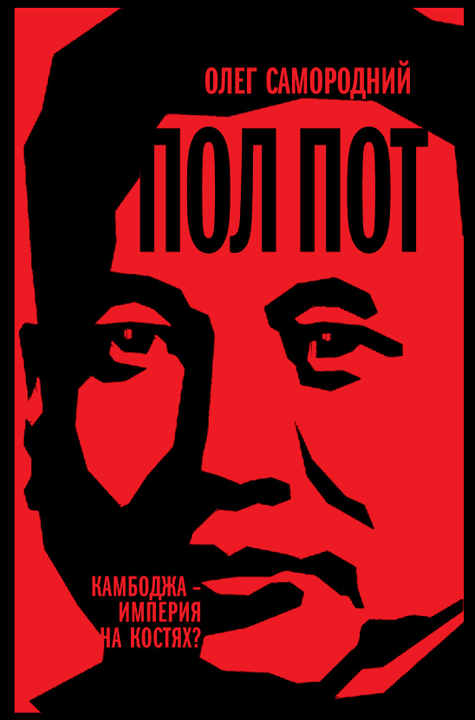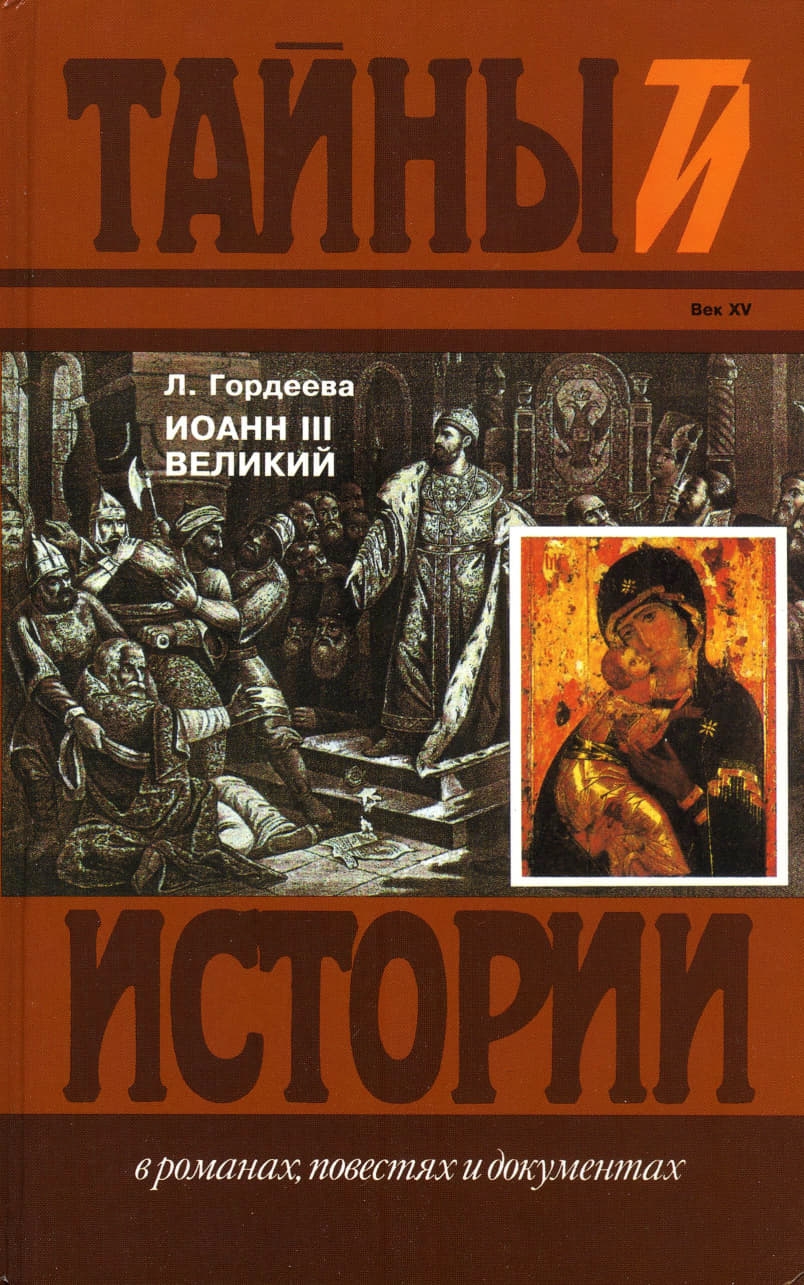Шрифт:
Закладка:
Роман «Седой Кавказ», впервые опубликованный в 2001 году – остросюжетное, динамичное и захватывающее произведение. В нем как нигде более показана полная деградация и разложение советского строя, описан механизм распада огромной державы под величественным названием СССР. Эта перемена приводит к масштабным социальным потрясениям, меняет не только устои, но и жизненные ориентиры некоторых людей. «Седой Кавказ» – масштабное и где-то эпическое произведение. В нем много остроконечных граней, которые представлены в разных оттенках. Несмотря на то, что здесь так же, как и в «Прошедших войнах», описан драматический период, все же этот роман в целом представляет собой яркое, жизнеутверждающее, человечное произведение, так как он о чистой, красивой и трогательной любви.