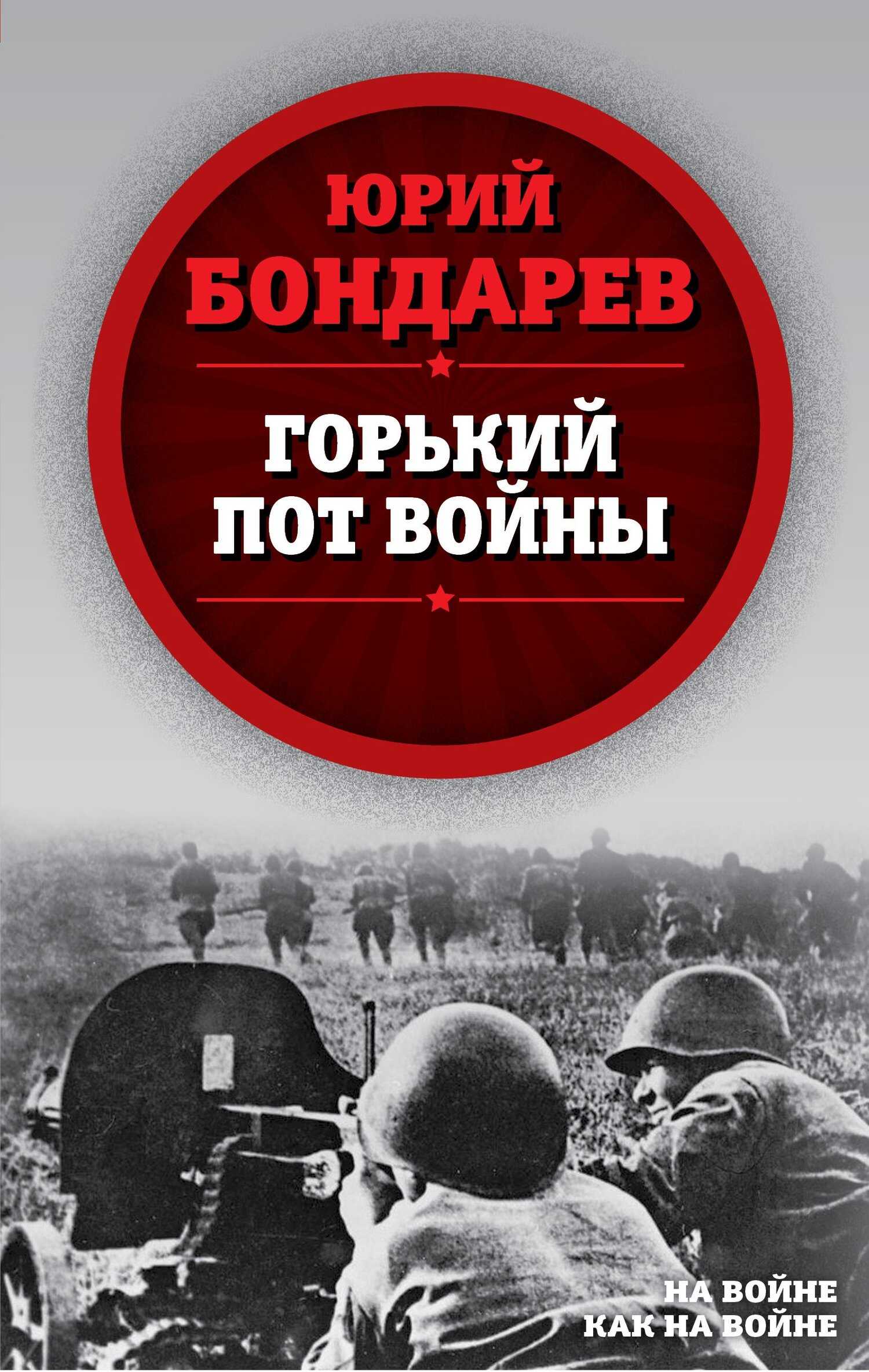Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В июле 1943 года по приказу Ставки Верховного главнокомандующего в районе Орловско-Курского выступа от станции Ржава до станции Старый Оскол за 32 дня была построена железнодорожная ветка расстоянием в 96 км. На ее строительстве трудились преимущественно женщины и подростки. Для уничтожения этой стратегически важной дороги абвер создал под Киевом специальную школу для подготовки диверсантов…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Федорович Иванов»: