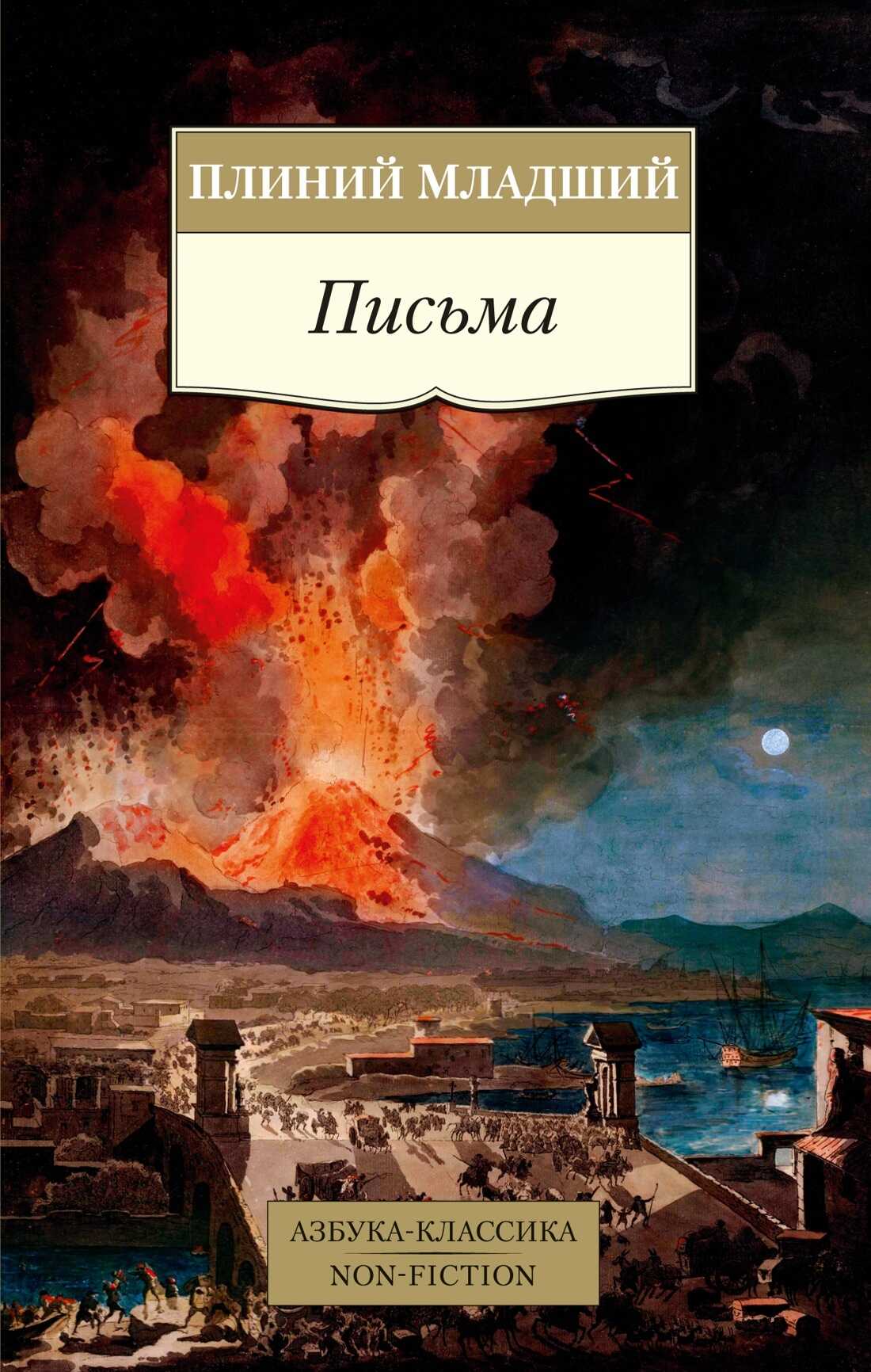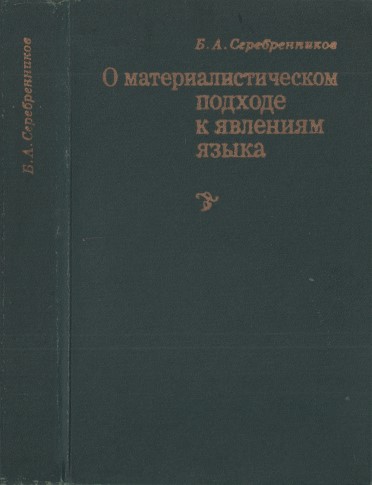Шрифт:
Закладка:
«Книга о Ласаро де Тормес» — это условное наименование цикла произведений, объединенных одним героем, в основу которого легла анонимно опубликованная в середине XVI века «Жизнь Ласарильо...» — повесть о судьбе мальчика, поневоле становящегося изворотливейшим плутом в жестокой борьбе с нищетой и голодом.Повесть увидела свет в самый разгар испанской Инквизиции и позже была запрещена Католической церковью. И неудивительно, ведь эта история опровергала общепринятую систему ценностей эпохи Карла V: слепое следование «кодексу чести», показной героизм, лицемерное соблюдение религиозных обрядов. Впоследствии она породила колоссальную литературную традицию и стала важнейшей вехой в истории мировой литературы, одним из наиболее ярких сочинений литературы Возрождения. Именно этой повести суждено было стать произведением, с которого начал существование как испанский плутовской роман, так и — шире — европейский роман Нового времени.Центральный персонаж повести — пройдоха и «антигерой» — оказался настолько значимым символом эпохи, что сегодня ни национальная литература Испании, ни мировая литература в целом немыслимы без данного текста. Многоракурсный и полифонический, толедский городской глашатай, ласково прозванный Ласарильо, по праву признан национальным архетипом и занял место в одном ряду с виднейшим героем испанской литературы хитроумным идальго Дон Кихотом Ламанчским.Трилогия о жизни и приключениях Ласаро публикуется на русском языке в полном объеме впервые: первая часть — с восстановленными купюрами, вторая и третья — в переводах, специально выполненных для настоящего издания.В книге воспроизведены классические иллюстрации Мориса Лелуара, а также редчайшее издание первого русского перевода «Ласарильо» (1775 г.), хотя и отмеченного некоторыми вольностями, но наполненного богатейшим и вкуснейшим русским языком, а потому представляющего собой самостоятельную ценность.Рекомендуется самому широкому кругу читателей.
![Алмазная сутра, или Сутра о Совершенной Мудрости, рассекающей [тьму невежества], как удар молнии. Польза "Ваджраччхедика пражняпарамита сутры". - Автор Неизвестен](/uploads/posts/books/22932/22932.jpg)