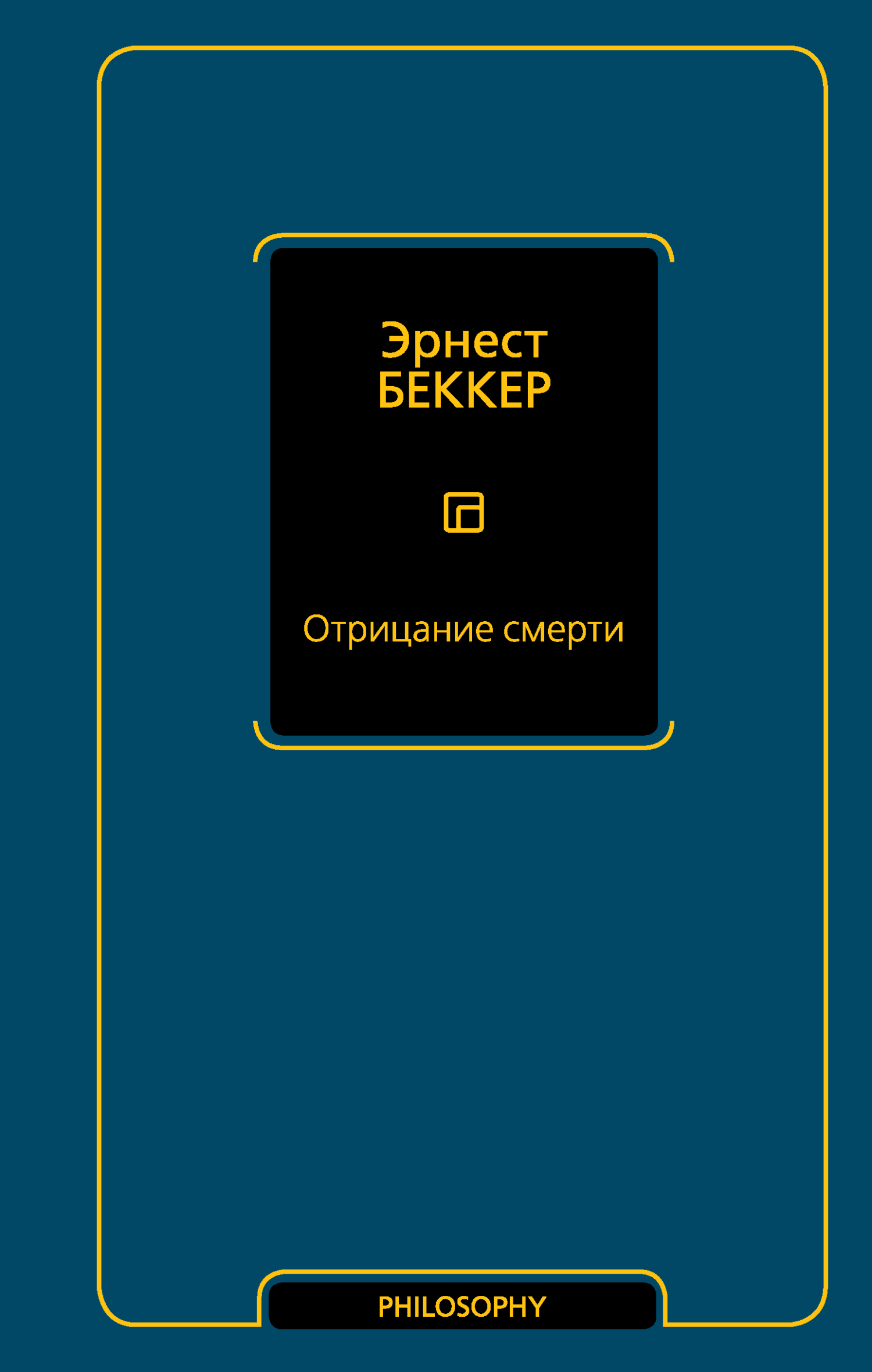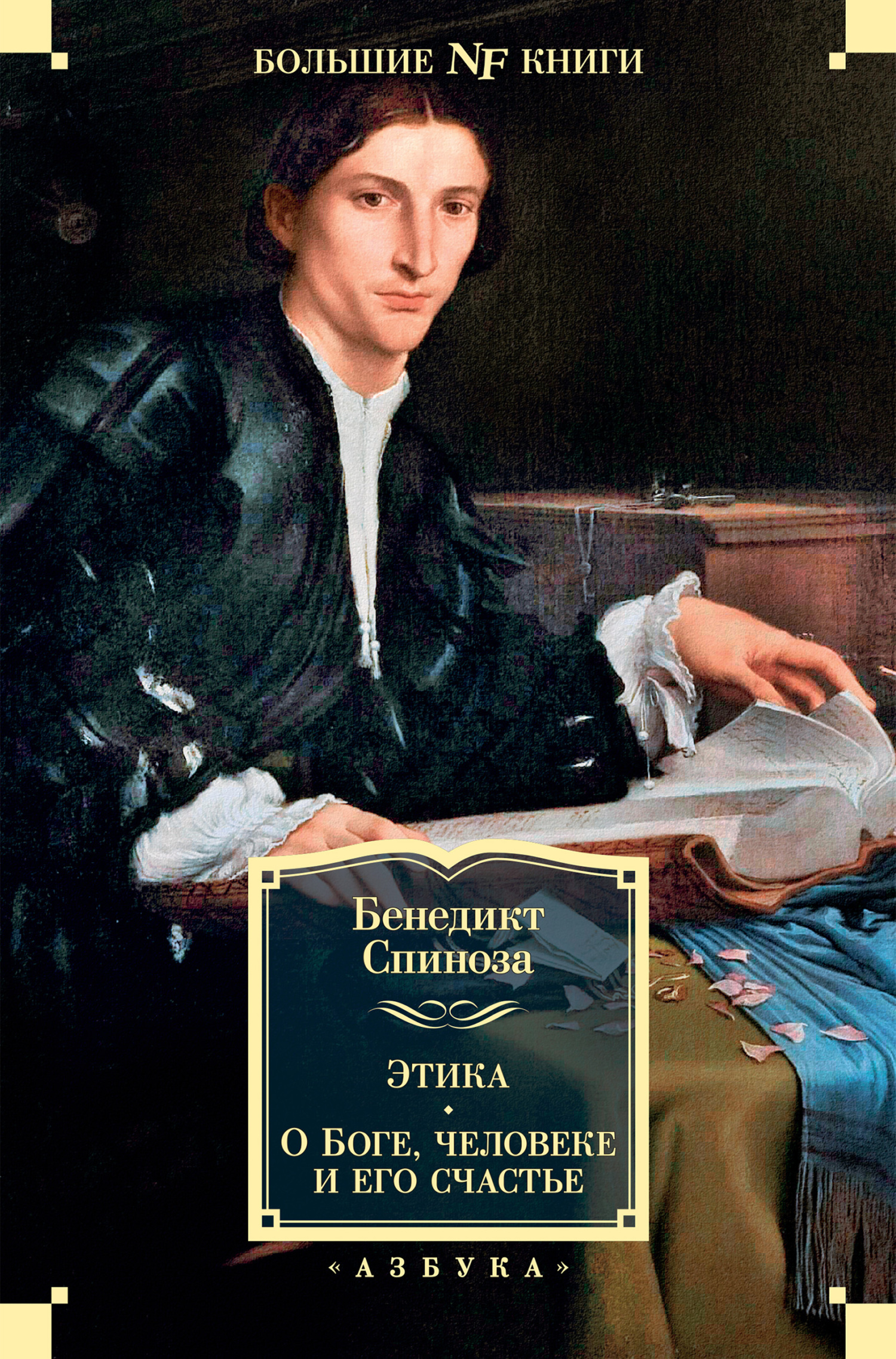Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга американского психолога и антрополога Эрнеста Беккера (1924—1974) «Отрицание смерти» (Пулитцеровская премия, 1974) стала классическим трудом в области психологии и философии. Беккер анализирует, как страх смерти влияет на человеческую жизнь и поведение, отношения с другими людьми и общество в целом, и объясняет, как отрицание смерти влияет на мотивации и действия, и становится источником многих проблем и конфликтов. Автор объединяет огромный спектр областей – от психологии и философии до религии и гуманитарных наук, и опирается на работы Сёрена Кьеркегора, Зигмунда Фрейда, Нормана Брауна и Отто Ранка.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эрнест Беккер»: