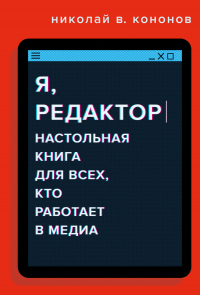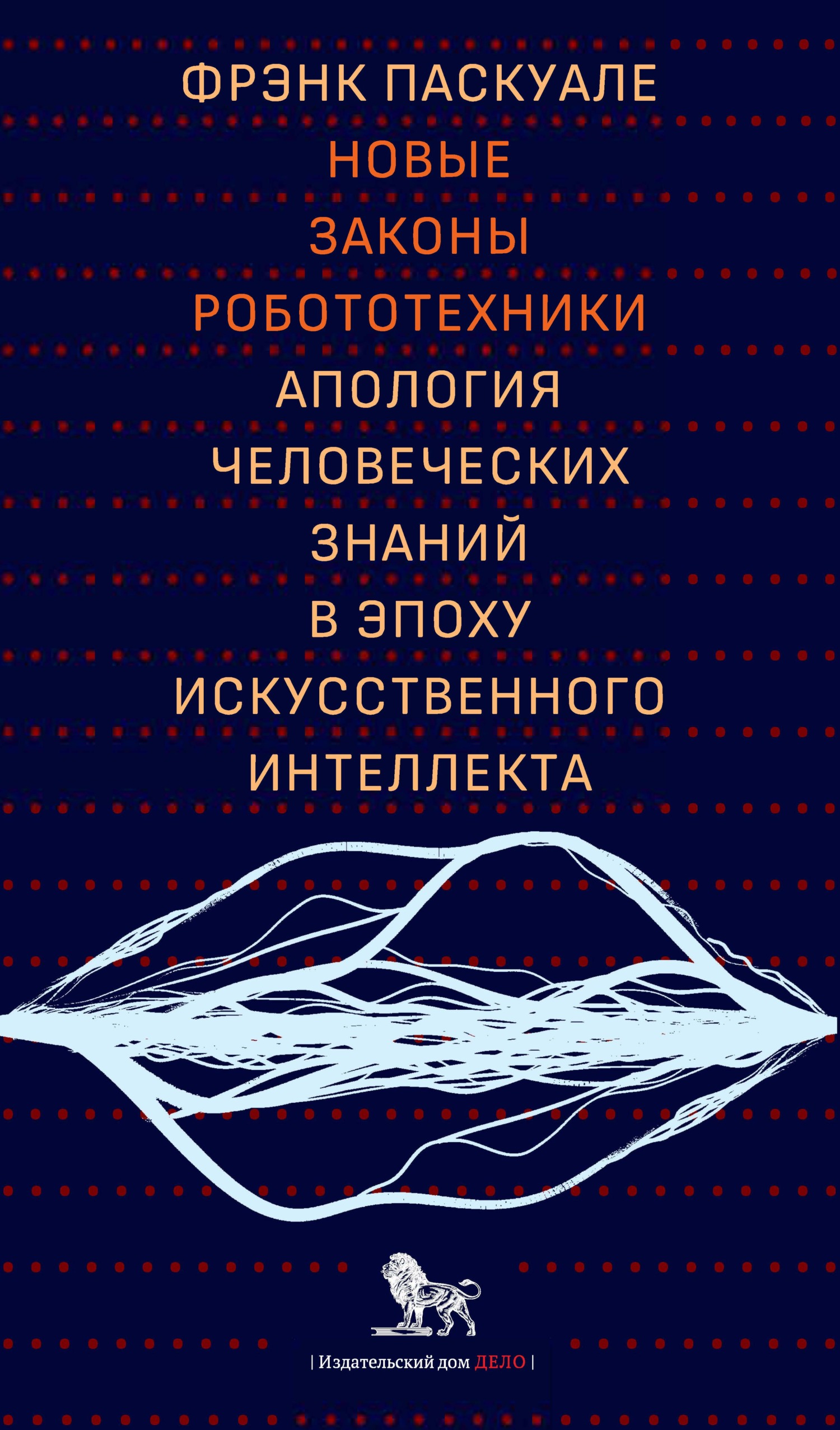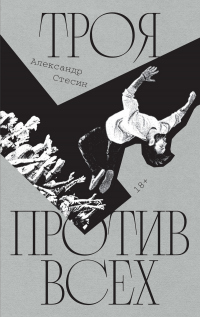Шрифт:
Закладка:
Бывает так, что любовь заходит в тупик у двух-трех человек. А бывает так, что любовь, секс, близость и дружба заходят в тупик сразу у многих, у целых обществ; так случается, когда целые институты и государства предлагают гражданам закрывать глаза на изменения в мире, предлагают думать, что в отношениях между людьми есть нечто неизменное, и жить, будто на дворе вечный 19 век. В России, как и во многих других местах, любовь точно зашла в тупик; некрополитики прошлого и настоящего населяют публичную сферу священными призраками и затыкают разговор о живых человеческих телах, многообразии их форм и отношений между ними. В результате — меньше осмысленных отношений, приносящих радость и устойчивость всем сторонам, — и больше насилия. Люди объясняются в любви, но сама любовь остается без объяснения. На месте традиций нарывами возникают вопросы: кому на самом деле нужна семья, почему дружба как бы менее ценна, чем любовь, кто хочет, чтобы горожане были счастливыми, кем определяется счастье, почему любовь считается обязательной для всех и почему сотням миллионов людей отказывается в праве на нее, почему интимности — это личное право каждого и почему это плохо, причем тут устройство города, потоки миграции, фармакология, государственный аппарат, разделение труда, климатический кризис, производство мобильной техники, дроны и коралловые рифы.