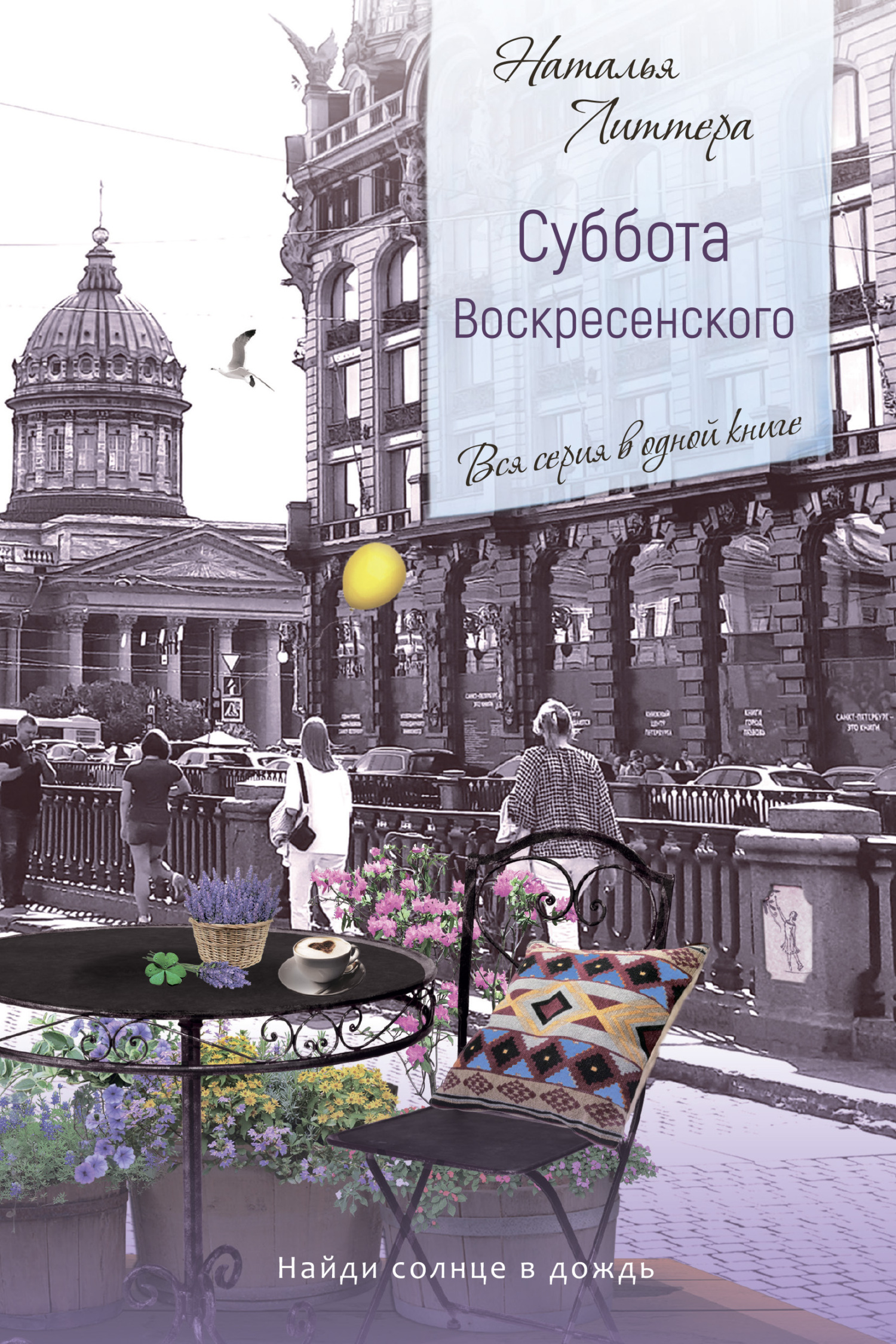Шрифт:
Закладка:
Современный русский писатель Алексей Баев представляет оригинальное течение в литературе, где парадоксальность происходящего воспринимается как должное. Поставангардность подкреплена грамотным легким языком, новизной мотивов, неожиданными сюжетными поворотами. Все, что читатель видит в произведениях автора, кажется одновременно невозможно абсурдным и абсолютно объяснимо реальным.Сборник «Грехи и погрешности» – это избранные сочинения Баева. Некоторые из них уже были доступны широкой публике в различных изданиях и на интернет-площадках, другие увидят свет впервые. Видное место в книге занимает мистическая повесть «Трубы медные», рассказывающая о некой семейной реликвии, способной творить чудеса и приносить несчастья.Читатель найдет в сборнике произведения разных жанров. Есть тут и фантастика, и городское фэнтези, и юмористические заметки, и даже мистический реализм. Книга заинтересует широкую аудиторию.