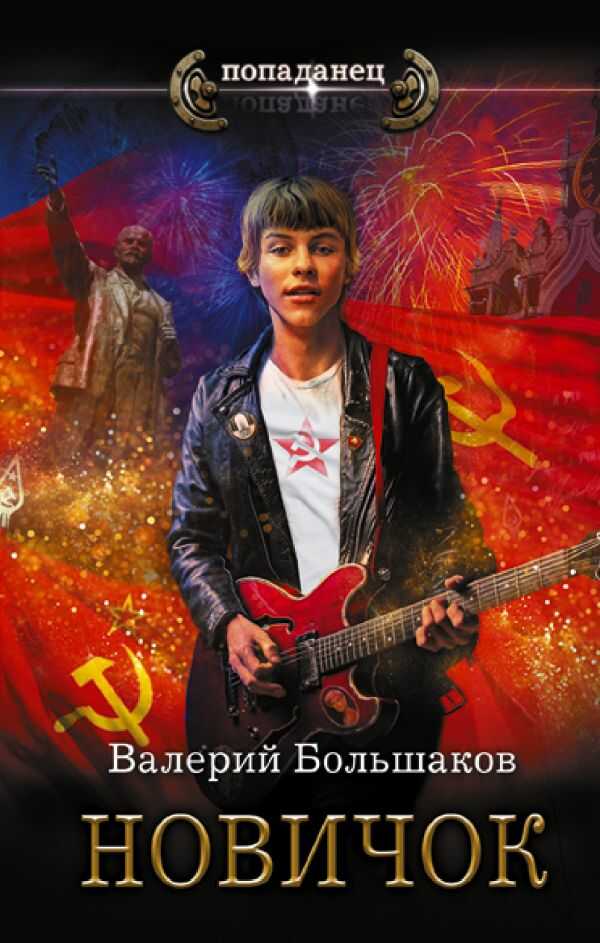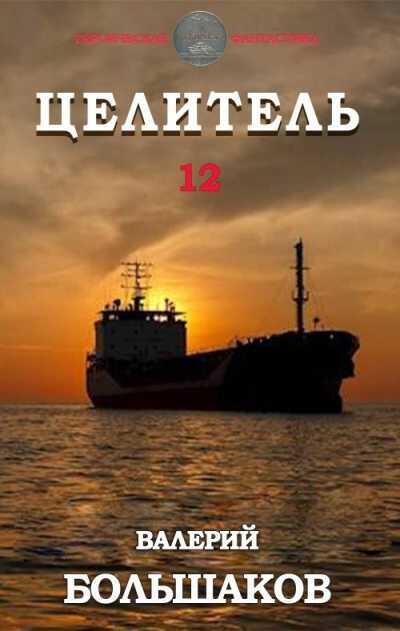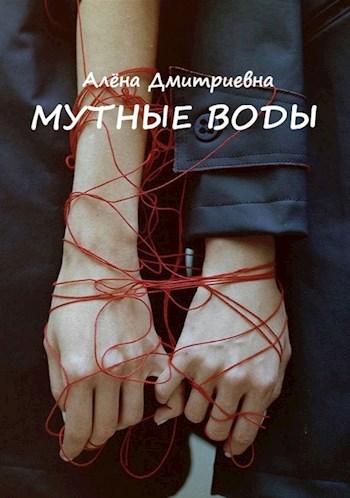Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Даниил Скопин — обычный человек. Он не служил в ВДВ, английский знает на троечку, не обладает особыми талантами или сверхспособностями. Но именно с ним происходит нечто необыкновенное — Даниил попадает в 1979 год. Даня Скопин опять "новенький", как сорок лет назад. Опять он входит в 8-й "А", пока чужой и недружелюбный класс. Удастся ли ему проделать "работу над ошибками"? Скопин ищет себя в новом для него мире, находит верных друзей и опасных врагов. Мечтает заниматься математикой, а приходится выступать в лучших концертных залах мира… Хочет уберечь страну от бед — и играет в прятки с КГБ… Даня знает будущее, но что станется с ним самим завтра, через месяц, через год?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валерий Петрович Большаков»: